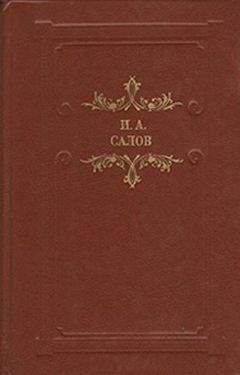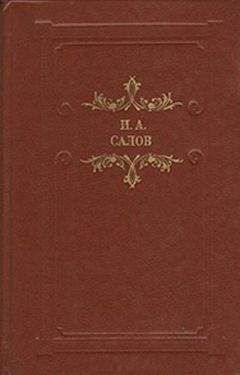Илья Салов - Грачевский крокодил. Вторая редакция
Одновременно с этим, с отцом Иваном случилось и другое горе. Банк, в который он так усердно и настойчиво вкладывал все Свои сбережения, был разграблен директорами, и старик потерял при этом более шести тысяч рублей. Работать и трудиться попрежнему он был не в силах, ибо паралич, случившийся с ним во время производства в его доме обыска, значительно ослабил его здоровье. Отец Иван совершенно поседел, волочил левой ногой, плохо владел правой рукой, как-то сгорбился, потряхивал головой, а немного перекосившиеся губы мешали ему отчетливо выговаривать слова. Он словно заикался, словно картавил и как-то особенно странно ворочал языком, словно во рту у него был горячий картофель, который он перекладывал с одной стороны на другую. При таком состоянии здоровья нечего было и помышлять также и о выездке рысаков. С болью в сердце он распродал своих маток, жеребцов, жеребят и даже беговые дрожки, на которых летал, бывало, по выгону, и вырученные деньги положил не в банк, а просто, по-старинному, как делали наши деды, запрятал в кубышку и где-то на огороде глубоко закопал в землю. Благочиние свое он давно оставил; ему даже хотели запретить совершение литургии по тому случаю, что он и ходил не твердо, и правой рукой владел плохо, и картавил, но отец Иван съездил к архиерею и, упав ему в ноги, молил «не добивать и без того убитого!» Архиерей долго смотрел на отца Ивана, обливавшегося слезами, подивился происшедшей с ним перемене, его сединам, полюбопытствовал об участи сына, которого назвал «злодеем», но совершать литургию все-таки разрешил. «Это только снисходя к твоим прежним заслугам, — проговорил владыка пастырским, поучительным тоном: — хотя поступок сына твоего и повелевал бы перенести кару и на тебя тоже, повелевал бы изъять и тебя из вертограда, как древо, принесшее недобрый плод, но… мне жаль тебя, вижу, что достаточно наказан! Гряди с миром!» Зато теперь отец Иван служил обедни не так, как прежде. Он служил их чуть ли не каждый день, не гнал как на почтовых, а, наоборот, служил чинно, благоговейно, каким-то упавшим, истомленным голосом и с глазами, полными слез. Прежде, бывало, дьячки не поспевали за ним, а теперь сплошь да рядом случалось так, что дьячкам приходилось по нескольку минут ждать его возгласов. «Что он там?» — спрашивали дьячки шепотом у выходившего из алтаря сторожа, и сторож тоже шепотом отвечал им: «Погодите, плачет!»
XLVI
Но вряд ли причиною этих тайных слез, проливаемых на алтаре, был банк и потеря хранившихся в нем денег. В другое время, конечно, это поразило бы его пуще грома небесного, но теперь было не то. По крайней мере о деньгах отец Иван никогда и не упоминал даже, как будто их и не было там! Ему как-то больно смотреть было на участь Асклипиодота. И больно и обидно!.. «Ни одного-то счастливого дня не было у него в жизни», — думал отец Иван, и ему становилось так жаль сына, что даже сердце его сжималось от тоски… Нечего говорить, что место секретаря управы, обещанное Асклипиодоту, ему не далось, ибо в то самое время, когда оно освободилось, Асклипиодот содержался в тюремном замке, а когда он возвратился домой совершенно оправданным, то место, было занято другим. Сунулся было Асклипиодот в управление железной дороги с просьбою принять его снова на службу, ему дали слово, но потом почему-то отказали, хотя в это самое время была свободная вакансия именно на той станции, на которой когда-то служил Асклипиодот. Одновременно с этим при съезде мировых судей освободилось место судебного пристава. Отец Иван поехал в город, и так как для поступления на эту должность требовался залог в размере пятисот рублей, то он захватил с собою и требуемые деньги. Председатель съезда даже обрадовался, выслушав просьбу отца Ивана, приказал было немедленно же зачислить Асклипиодота, но потом вдруг, что-то вспомнив, переконфузился, покраснел и, возвращая отцу Ивану взятый было залог, принялся извиняться, объявив, что у него совершенно вышло из головы, что место это давно уже обещано им другому. Месяц спустя Асклипиодот получил известие, что при губернской земской управе открывается статистическое бюро и что поэтому требуются люди, способные заняться этим делом. Отец Иван поехал в город. Статистики действительно требовались, но должности этой опять-таки Асклипиодоту не дали. «Мы, земцы, конечно, не стеснились бы дать место вашему сыну, тем более что он совершенно оправдан, — говорил председатель управы растерявшемуся отцу Ивану: — но для того, чтобы нашим статистикам ездить по волостным правлениям и просматривать книги, необходимо заручиться открытым листом от начальства… Тут-то и встретится препятствие… Мы, земцы, конечно, смотрим на это либерально… Но согласитесь…» Так отец Иван и возвратился опять ни с чем. Целые дни Асклипиодот проводил ничего не делая, и ему было до того скучно, что он не знал, куда деваться от этой томящей скуки. Пробовал было он удить рыбу, ходить с ружьем, но все это вскоре надоело. Наконец ему пришла мысль собрать нескольких мальчиков и заняться их обучением. За дело это Асклипиодот принялся не только горячо, но даже с любовью. Маленькая школа его состояла из восьми мальчиков, которые приходили к Асклипиодоту часов в восемь утра и расходились часа в четыре пополудни. Месяца через два мальчики стали уже довольно порядочно читать и писать и так приохотились к делу, что не только не бегали его, а, наоборот, заинтересовались им. Отец Иван занялся с ними законом божиим и толкованием молитв. Асклипиодот, припоминая все то, что в семинарии отбивало у него охоту заниматься, тщательно избегал этого. Уроков на дом он не задавал, а все уроки растолковывал им в классе, разъяснял и затем заставлял повторить разъясненное. Если он замечал, что мальчики недостаточно усвоили себе этот урок, он дальше не шел и на другой день снова принимался за старое. Более слабых мальчиков он не запугивал слабыми отметками, а старался по возможности больше с ними заниматься. Приохотился к этому делу и отец Иван и кроме закона божьего стал приучать мальчиков к церковному пению. Так шло дело, как вдруг однажды вечером приехал к нему становой Дуботолков. Выждав, когда Асклипиодот вышел из комнаты, он обратился к отцу Ивану:
— А твой сынок, говорят, «школку» открыл?
— Не школу, а просто мальчиков обучает… И я тоже с ним вместе тружусь…
—- Ты, братец, брось это дело…
— Почему?
— Брось. Я от исправника частное письмо получил… Это не нравится ему…
— Почему же?
— Как почему?.. Сын твой был замешан!.. И в самом деле неловко… Дойдет до губернатора…
— Да разве есть какое-нибудь официальное распоряжение…
— Ну, вот еще, что выдумал! — перебил его становой. — Ничего этого нет и быть не может… а так просто, неловко… Ну, как тебе сказать… Неловко — и все.
И потом вдруг, переменив тон, он прибавил:
— Однако, братец, ты того… из брюнета-то белым сделался!.. а что рука?
— Плохо!
— И с языком-то что-то того?..
— Да, того.
— И ходишь-то тоже… словно развинченный. А водочку-то пьешь?
— Нет.
— Неужто совсем бросил?
— Бросил.
— А мы было так привязались к этому делу, — проговорил отец Иван немного погодя: — так полюбили его… да и мальчики-то привыкли к нам.
— Да ты что, плату, что ли, берешь с них?
— Нет, даром…
— Так о чем же тужить-то!.. Вона — была нужда!.. Я думал — за деньги, а это он даром!.. Однако мне: недосуг, — прибавил он, вставая: — ехать надо в Путилово, подати выколачивать… Ну, прощай, будь здоров… а школу, пожалуйста, того… слышишь… пожалуйста… для меня.
На другой день утром Асклипиодот, увидав в окно подходивших учеников своих с книгами и тетрадками, поспешил к ним навстречу.
— Ну, ребятишки, — проговорил он, выбежав на крыльцо:- я вас больше учить не буду… Надоели вы мне… Ступайте-ка туда, откуда пришли.
И, проговорив это, он почему-то поспешил скрыться от них в комнату, не без злости хлопнув за собою дверью.
Мальчишки постояли, постояли, удивленно переглянулись и побежали себе домой.
XLVII
Немало раздражала отца Ивана и чета Ждановых. Не проходило недели, чтобы не получал он от дочери или же от ее мужа скорбного письма с жалобою на дороговизну съестных припасов, на малочисленность заказов, да увеличивающееся количество живописцев и на упадок художественного вкуса «в публике». «Право, — писал Жданов отцу Ивану: — достойно удивления, до чего нынешние художники начали пренебрегать искусством. Я не говорю уже о пейзажистах и жанристах (те уже совершенно отпетый народ), но даже и наш брат иконописец словно с ума сошел. Таких рисуют святых, каких, вероятно, никогда и не бывало, и этим небывалым святым такие приделывают лики, что можно подумать, что перед вами не святой, не апостол, а просто самый обыкновенный человек стоит! Ничего божественного, ничего святого! даже стали избегать сияний. Публике нравится эта реальность, и потому нас, прежних, стали избегать». Все эти письма сводились к тому, что работы стало мало, а что с уменьшением работы уменьшился и доход. Серафима же писала отцу: «Вы не поверите, батюшка, как все вздорожало. Прежде, бывало, за капусту платили по два рубля за сотню вилков (и вилок был тугой, белый, не уколупнешь), а теперь не угодно ли пять рубликов отдать. Огурцы самые лучшие, на выбор, десять копеек мера от силы, а теперь и за двадцать не купишь даже плохого сорта, то есть „кривача и желтяка“. А уж про „убоину“ и говорить нечего. Эти мясники подлые совсем избаловались. Самая постная говядина, которую не грех и великим постом есть, десять, одиннадцать копеек фунт. Студень бычий за рубль не укупишь, телятина — пятнадцать копеек, баранина — десять, двенадцать, а уж про птицу нечего и говорить, мы ее даже и по праздникам не видим, потому нет приступу. А квартиры подешевели. Комнатка на антресолях, в которой братец жил, прежде за три рубля в месяц ходила, а теперь только за два. И то насилу постояльца нашли из театра, контрабаса, от которого хоть вон из дому беги. Что же это за порядки? Провизия дорожает, а квартиры ни почем!» И опять-таки письма эти сводились к тому, что не худо бы отцу родному вспомнить о дочери и внучатах. Сначала отец Иван отвечал на эти письма, посылал понемногу денег, но потом письма эти ему надоели, и он оставлял их без ответа.