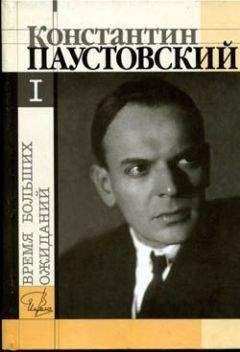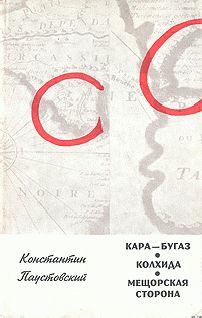Константин Паустовский - Золотая роза
ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ
Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя, или, как говорят, "узнать, почем фунт лиха", потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, "одну только правду и ничего, кроме правды". К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них. Без них нельзя себе представить этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом. На побережье Эгейского моря живет живописное племя "леватийцев" веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов- греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев. У нас в Советском Союзе есть свои "левантинцы". Это "черноморцы" тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и -влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в "Одессу-маму", в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни. К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий. Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского "пацана"-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля. Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека. Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в Одесском порту. Он только что написал "Поэму об арбузе" - удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной. Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену. Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев "Поэму об арбузе". Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем - очевидно, с погибшей шхуны.
И некому здесь надоумить ее, Что в руки взяла она сердце мое!..
Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения. Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Берне с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская "Донна Анна" или пушкинское "Для берегов отчизны дальней... " - что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения предвестника слез. Из порта мы пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. С раннего утра мы не ели. В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: "Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!" Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей. Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, "сойти на нет" перед этим нищим. - Где ваша совесть, люди вы или не люди?! - кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: - Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку! Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью. В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны. В это время вошел нищий и с порога уже закричал проклятья. - Ага! - зловеще сказал Багрицкий. - Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти! - Что же тогда будет? - спросил я. - Худо ему будет, - ответил Багрицкий. - Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику. Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле - может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал: - Когда, наконец, у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, - я не говорю - половину, - несчастному старику. Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, - говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, Кто б ты ни был, не падай душой!
Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: "Верь, настанет пора и погибнет Ваал" - повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной. - Вот видите, - сказал Багрицкий серьезно, - даже одесские нищие не выдерживают Надсона! Вся чайная гремела от хохота. Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц. В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы. Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян. На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги. Одесские газеты платали ему гроши: по пять- десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь. Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил один в издательства и редакции, а брал с собой "для храбрости" кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался. В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. Приехав, он предупредил: "Я буду стоять у вас постоем". И действительно, за целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля. На тахте он был обложен книгами, чужими рукописями стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго. Так он просидел весь месяц, восторгаясь "Улалаевщиной" Сельвинского, рассказывая невероятные истории и беседуя с "литературными мальчиками" одесситами, налетевшими на него тучей, как только он появился в Москве. Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб. Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома - так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками сжимая морскую воду. Мне кажется, что переезд в Москву был ошибкой. Багрицкому нельзя было отрываться от юга, моря и Одессы, даже от его любимой одесской еды - баклажанов, помидоров, брынзы, свежей скумбрии. Он был весь прогрет югом, жаром желтого ноздреватого известняка, из которого построена Одесса, пропах полынью, солью, акацией и морем. Он умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии. За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась "Дума про Опанаса", конь Котовского, что "сверкает белым рафинадом", широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия - наследница "Слова о полку Игореве" и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чебреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер "левант" над родным Черноморьем.
ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР