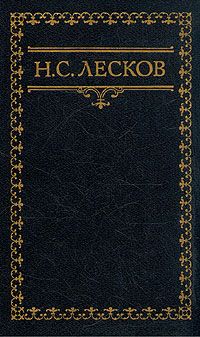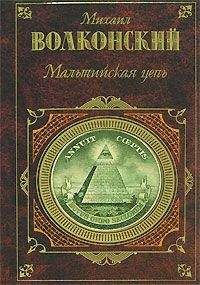Михаил Волконский - Князь Никита Федорович
Он отнял руку от лица и, проведя ею по голове, как бы желая отряхнуть свои мысли, хотел встать, но, взглянув пред собою, увидел Черемзина, приближающегося по аллее. Тот шел, сконфуженно улыбаясь, и в руках нес что-то.
"Что это?" — подумал Петр Кириллович.
Черемзин подошел и подал ему, все так же улыбаясь, сетку с куском льда.
— Что это? — произнес вслух Трубецкой.
— Вы сказали, — что «то» так же невозможно, как принести вам воды в этой сетке. Ну, вот я вам принес ее, только мерзлую, потому что взял поближе с ледника; до колодца дальше было идти.
Петр Кириллович остановился, как бы первый раз в жизни не зная, что ответить.
— Иль ты меня перехитрил? — сказал он наконец, вырвав из рук Черемзина сетку со льдом, и отбросив ее далеко в сторону. — Садись здесь!
Черемзин сел.
— Остроумно… остроумно! — бормотал старый князь, уже не обращая на него внимания. — Перехитрил… меня перехитрил…
Он усмехался и фыркал носом.
Выход ему был дан Черемзиным. Оставалось, пожалуй, теперь только дать свое согласие, и был один миг, что Петр Кириллович хотел встать и обнять Черемзина, как будущего мужа своей дочери. Но сердце его снова сжалось. Как! Это значило расстаться с нею, расстаться навсегда, отдав ее этому совсем чужому человеку, а самому быть одному и дожить свой век, как никому не нужная рухлядь, как исписанный, никуда не годный лист бумаги, потерявший давно весь свой интерес! Это было ужасно.
"Нет, нет, не нужно… Они будут несчастны", — решил опять Петр Кириллович и, обратившись к Черемзину, резко спросил его.
— Сколько тебе лет?
Черемзин ответил не сразу.
— Когда ты родился? — переспросил его Трубецкой.
— Я родился в октябре… в год, когда был второй поход Голицына на Крым. Мой отец умер в этом походе.
Петр Кириллович поморщился.
— Это значит, в тысяча шестьсот восемьдесят девятой году, так по-нашему? — сказал он и концом своей большой палки с серебряным чеканным набалдашником написал на песке дорожки "1689". — А теперь у нас какой год? — продолжал он спрашивать.
— Тысяча семьсот двадцать седьмой, — ответил Черемзин.
Трубецкой надписал над первою цифрой «1727» и сделал вычитание.
— Видишь, — сказал он, — тридцать восемь… Тебе тридцать восемь лет… А дочь моя родилась в июле тысяча шестьсот девяносто восьмого года — значит, ей теперь двадцать девять. Ты старше ее на девять лет — ну, а я всегда говорил, — заключил с удовольствием Петр Кириллович, — что муж моей дочери должен быть старше ее на десять лет, на десять лет, понимаешь?… а ты годами не вышел… Сделайся старше на один год, сделайся… Тогда увидим. — Он встал и отвесил Черемзину поклон. — Ну, так вот! Ты мне нравишься, это — не отказ. Обижаться тебе тут нечего. Сатисфакция полная {Удовлетворение полное.}. А только поди сделайся на год старше… попробуй… попробуй…
Черемзин отлично сознавал, что можно было принести льду в сетке, но сделать то, что требовал теперь Трубецкой, было немыслимо. Он вскочил, ничего не сказав, прошел по аллее, слыша за собою старческий, донельзя противный ему теперь смех Петра Кирилловича, и, взбешенный, уехал, как ему казалось, навсегда из Княжеского.
Вернувшись домой, Черемзин увидел, что для него все теперь кончено. Упрямый старик ни за что не отступит от с_в_о_е_г_о и, придравшись, как это было видно, к первому пришедшему ему в голову обстоятельству, не согласится изменить свое решение, потому что не хочет отпускать от себя дочь. Оставаться теперь здесь, у себя в именье, так близко от Трубецких, к которым теперь его тянуло больше прежнего и к которым он не мог уже показаться, было и мучительно, и тоскливо.
Несколько дней Черемзин ходил у себя по комнатам, затем занялся усиленно верховой ездой, так что даже загнал лошадь, наконец, велел укладываться. Он собрался опять в Митаву или в Петербург на службу, куда-нибудь. В деревне оставаться он не мог больше и уехал, решив по дороге завернуть к Волконским, которые — он знал — были у себя в деревне, недалеко от Москвы.
Старый князь Петр Кириллович, узнав об отъезде Черемзина, сделался на неделю не в духе, не принимал гостей и не допускал к себе дур и шутих. Но с дочерью он был особенно ласков и внимателен и хвалил ее за то, что о_н_а н_е п_р_о_м_е_н_я_л_а отца на "черемзинского помещика", как будто во всем этом была ее воля.
Бедная Ирина Петровна старалась сдержать себя при отце, но, проводя бессонные ночи, часто и много плакала, горько жалуясь на то, что ей выпала такая судьба.
У Волконских Черемзина встретили как старого приятеля и очень обрадовались ему. Он приехал к ним совершенно неожиданно и своим появлением внес невольные воспоминания Митавы, минувшего времени и лучших беззаботных лет.
В деревне у себя Волконские устроились пока в тесных, низеньких покоях хором старинной постройки. Князь Никита по приезде первым делом по настоянию жены стал рубить для нее новый дом с просторными горницами. Оглядевшись, он исполнил свой обет — ходил с Лаврентием пешком в Киев.
Аграфене Петровне все не нравилось в деревне: жара, мухи, низкие потолки, маленькие окна и в особенности грубость мужиков. Все это ежедневно, ежеминутно раздражало ее. Она почти целый день была не в духе, и когда князь Никита, вернувшись с поля или с реки, подходил к ней и нагибался и взглядом требовал от нее улыбки, она не улыбалась ему, и Волконский, тяжело вздохнув, отходил от жены. Разница в склонностях и стремлениях в деревне стала сильнее заметна. В Митаве, в Петербурге Никите Федеровичу легко было жить так, как ему хотелось, то есть подальше от всех, но Аграфене Петровне вовсе не было возможно жить в деревне так, как хотелось ей, и Волконский понял, что тот покой, который думал он найти в деревне, тот внутренний душевный покой, к которому он постоянно стремился, был еще менее возможен здесь.
С приездом Черемзина не только, сам Никита Федорович и Аграфена Петровна, но и Миша и Лаврентий, и даже Роза повеселели. Гостю отвели лучшую комнату, за ним ухаживали, были рады ему и внимательны, и он, улыбаясь, и сам тоже повеселев, с удовольствием принимал эту радость и ласку своих друзей.
— Ну, рассказывай, как же ты, как княгиня, Миша… и как он вырос! — воскликнул Черемзин в первый же вечер своего приезда, обращаясь к Никите Федоровичу, когда они остались одни.
— Да вот живем — и_з_г_н_а_н_н_и_к_и, — усмехнулся князь Никита
— А ты и рад?
— Конечно, рад, с одной стороны… но боюсь, как бы хуже не было. Аграфена Петровна опять что-то затевает.
— Неужели опять? — воскликнул Черемзин.
Никита Федорович махнул рукою и рассмеялся. Ему теперь, при свидании с приятелем, которого он так давно не видел, все казалось весело и хорошо.
— Да что ж она может сделать здесь, в деревне, в изгнании, как ты говоришь? — переспросил тот.
— Как, что? — ответил князь Никита, наморщась и становясь серьезным. — На грех тут от нас недалеко именье двоюродного ее, Талызина Федора, от Москвы он в тридцати верстах. Из Москвы туда приезжают, и моя ездит… И сделать ничего не могу. Уж коли петербургского случая мало было…
Черемзин слушал друга, перебивая расспросами и вставляя замечания. Ему тоже хотелось говорить и тоже рассказать про себя.
— А что у нас в Митаве делалось без вас! — начал он, когда Волконский обо всем рассказал. — Представь себе, когда — помнишь — Петр Михайлович ездил в Петербург, тогда вдруг выдвинулся при дворце герцогини Бирен, сын простого конюха.
— Я его мельком помню, — перебил Волконский, — как же… в Митаве… Теперь он, говорят, уже называет себя не Биреном, а Бироном, и производит свой род от французских графов.
Черемзин снова рассмеялся.
— Да и сам Петр Михайлович покровительствовал ему.
— Да ты о себе-то расскажи! — опять перебил Никита Федорович. — Ну, как жил в деревне, как там устроился?
— Да никак не устроился, — вдруг упавшим голосом ответил Черемзин. — Что поделаешь! Я навсегда уехал теперь из деревни.
— Опять на службу, опять в Митаву? — почти с ужасом спросил Волконский.
— Да, опять.
И Черемзин в свою очередь рассказал все о себе и о своей неудаче.
Никита Федорович серьезно, внимательно следил за его рассказом.
— Странный старик! — сказал он, когда Черемзин кончил. — Я тебе одно только могу сказать — будь уверен: если должно, чтобы твоя княжна Ирина стала твоею женою, то ничто — ни отец, ни какая другая сила не остановят этого.
— Да, хорошо тебе говорить так, а я не вижу возможности… Нет, это не сбудется…
Волконский встал со своего места и заходил по комнате.
— Помнишь Митаву? — сказал он, обращаясь к Черемзину. — Помнишь, как ты тогда утешал меня и помог мне — да, помог, конечно, хотя и смеялся, и балагурил?
— Что ж, тогда мы моложе были, — вставил Черемзин, как будто оправдываясь.