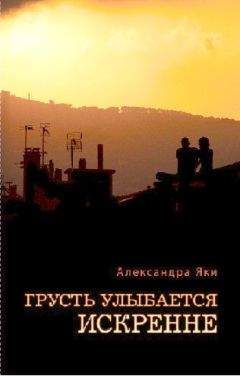Василий Гроссман - За правое дело (Книга 1)
— А что же тут такого? — удивлённо спросила она.
Она вытерла клеёнку, стала перемывать стаканы и рассказывать.
А Штрум стоял у окна и слушал её.
Какая странная женщина, как не походила она на всех знакомых ему женщин. И как красива! Как это она, не колеблясь, с поразившей Штрума режущей по душе откровенностью, рассказывала о себе, рассказала: о своей покойной матери, о том, какой у неё недобрый муж и как он — виноват перед ней.
В ее словах необъяснимо соединялись ребячество и житейская опытность.
Она рассказала: ему, что её любил один «замечательный парень», техник по монтажу, она работала тогда наладчицей в цехе, и теперь сама не понимает, почему не вышла за него замуж, а незадолго до войны пошла за красивого соседа по квартире, уполномоченного Омского райпищепромсоюза, он сейчас на броне (»прижался к броне», — сказала: она).
Нина посмотрела на ручные часики:
— Ну, пора. Спасибо за угощение.
— Вам спасибо, я даже не знаю, как благодарить вас.
— Война, все друг другу помогать должны, — сказала: она.
— Нет, не только за это спасибо. А за чудесный, замечательный вечер. И за ваше доверие ко мне. Поверьте, я очень взволнован тем, что вы так рассказали о себе, — говорил он, приложив руку к груди.
— Вы — странный, — сказала: она и с любопытством посмотрела на него.
— О, я, к сожалению, не странный, — сказал: он, — я самый обыкновенный человек. Необыкновенная вы. Разрешите, я провожу вас? — и он почтительно склонился перед ней.
Она несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза, и ресницы её на этот раз не моргали, а глаза стали пристальными, удивлёнными и широкими...
— Какой вы — сказала: она и вздохнула, словно собираясь плакать.
Да, мог ли он подумать, что эта молодая красивая женщина так много пережила. «Но как доверчива и чиста она», — подумал он.
Утром, проходя мимо старухи лифтерши, сидевшей в дачном плетёном кресле, Штрум спросил:.
— Как дела, Александра Петровна?
— Дела у всех одни, — ответила она. — Дочка болеет; хотела детей в деревню к сыну отправить, а в четверг письмо от невестки — забрали его в армию. Куда теперь их отправить, у той в деревне у самой двое, девочка постарше и мальчишка совсем мелкий.
В этот день в комитете Штрум узнал о приезде Чепыжина. Секретарша Пименова, шестидесятилетняя, полнотелая старая дева, смотревшая на мужчин, независимо от того, были ли они седыми профессорами или студентами первого курса, осуждающими глазами, сказала: Штруму:
— Виктор Павлович, академик Чепыжин просил вас ждать его — он будет здесь к шести часам вечера.
Она посмотрела на Штрума и строго произнесла:
— Ждать вам надо обязательно, так как он завтра уезжает в Свердловск. После этого она, усмехнувшись, негромко добавила: — И ждать вам придётся долго, так как убеждена, что Дмитрий Петрович опоздает.
Этим она хотела сказать, что и знаменитый академик не лишён слабостей, которые присущи ветреному трудновоспитуемому полу.
Но она, действительно, оказалась права — Чепыжин приехал в начале восьмого, когда кабинеты и комнаты уже опустели и вахтер сурово оглядывал нервно шагавшего по коридору Штрума, а оставшийся на ночное дежурство секретарь пристраивал к письменному столу кресло своего начальника, готовясь без лишней маяты скоротать ночь.
В тот момент, когда Штрум услышал шаги Чепыжина и затем, оглянувшись, увидел в глубине коридора знакомую плотную фигуру, он испытал чувство радости и волнения.
Чепыжин, заметив Штрума, протянул руку и, быстро идя ему навстречу, громко произнес:
— Виктор Павлович, вот мы и встретились. В Москве! Вопросы его были неожиданные, быстрые...
— Как в эвакуации живёте? Трудновато! Обо мне вспоминаете? Как вы тут с Пименовым договорились? Бомбёжек боитесь? Людмила Николаевна этим летом в колхозе не работала?
Слушая ответы Штрума, он слегка склонял голову набок, и под его седыми широкими бровями блестели внимательные, одновременно весёлые и серьёзные глаза.
— План ваш читал, — сказал: он, — действуете вы, мне кажется, в правильном направлении. — Задумавшись, он проговорил негромко: — Сыновья мои в армии, Ванюша ранен был. Ваш то ведь тоже в армии? Бросим-ка мы с вами науки и пойдём на фронт добровольцами? А? — Он вдруг оглядел комнату и сказал: — Душно, пыльно, накурено. Знаете что? Мы до моего дома пешком пройдём. Недалеко. Километра четыре. А там вас автомобиль подвезёт домой. Согласны?
— Конечно, согласен, — ответил Штрум.
В тихом вечернем сумраке загорелое, обветренное лицо Чепыжина казалось коричнево-тёмным, а светлые большие глаза глядели зорко и пристально Верно, такими были это лицо и глаза, когда Чепыжин по лесной, теряющейся во тьме тропинке спешил во время своих походов к месту ночёвки.
Когда они переходили Трубную площадь, он остановился и внимательно, медленно осмотрел пепельно-голубое вечернее небо. Удивительным был этот долгий, внимательный, хмурый взгляд. Вот оно — небо детских мечтаний, располагавшее к грустному созерцанию, к бездумной печали. Но нет! Небо вселенская лаборатория, где прилагался труд его разума, небо, на которое он смотрел глазами крестьянина, оглядывающего поле, где немало пролито им пота.
Эти первые замерцавшие звёзды, быть может, порождали в его мозгу мысли о протоновых взрывах, о фазах и циклах развития, о сверхплотной материи, о космических ливнях и ураганах варитронов, о различных космогонических теориях, о собственной его теории, о приборах, регистрирующих невидимые потоки звёздной энергии...
А быть может, совсем другие мысли возникали в мозгу Чепыжина, когда долгим, хмурым взглядом смотрел он на первые звёзды, мерцавшие в небе.
Быть может, вспомнился ему ночной костёр, потрескивание сучьев, закоптелый котелок, в котором тихонечко вздыхает распаренное пшено, резная чёрная листва над головой?
Или вспомнил он, как ребёнком сидел в тихий вечерний час на коленях у матери я, чувствуя тепло материнского дыхания, тепло материнских ладоней, гладивших его по голове, смотрел, смотрел, дивясь и зевая, на звёзды.
А среди редких звёзд и хрупких оловянных облачков поднялись аэростаты воздушного заграждения, мелькали широкие лучи прожекторов Война, война вторглась в города и на поля русских хлебопашцев, война шла в русском небе...
Они медленно шли и молчали. Штруму хотелось спрашивать, но он не задавал вопросов ни о войне, ни о работах Чепыжина, ни об успехах профессора Степанова, который недавно приезжал к Чепыжину советоваться, ни о том, как Чепыжин относится к работе Штрума, ни о том важном разговоре, который имел Чепыжин в Москве и о котором сегодня днём намекнул Штруму Пименов.
Он понимал, что был ещё один какой-то вопрос, разговор, касавшийся одновременно и войны, и работы, и тоски, жившей в сердце.
Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал:
— Фашизм! А? Что с немцами стало? Когда узнаёшь о средневековом озверении немецких фашистов, оторопь берёт, леденеешь. Выжигают деревни, строят лагери смерти, организуют массовые убийства военнопленных, невиданные с первобытных времён расправы над мирными людьми! Кажется, всё хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их. И их удивительную науку, и литературу, и музыку, и философию! А их рабочее движение? Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими.
Штрум сказал:
— Да, приходит такая мысль. И Магомет пошёл к горе, и гора пошла к Магомету. Но ведь гитлеризм возник не на пустом месте. Чудовищный шовинизм, «Deutschland, uber alles»[«Германия, Германия превыше всего!»] — это не Гитлер первым придумал. Я недавно перечитывав письма Гейне, «Лютеция», — сто лет назад писано об отвратительном, фальшивом немецком национализме, орущем, воющем, об его идиотской неприязни к соседним и чужеземным народам. А через полстолетие Ницше стал проповедывать сверхчеловека, белокурого зверя, которому все дозволено. А в четырнадцатом году цвет немецкой науки приветствовал кайзера, войну, вторжение в Бельгию; Оствальд, да что там Оствальд, там были люди и побольше. И теперь, в пору империализма, Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится — у него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве Потребитель нашелся! Кто марширует в полках СС? Кто всю Европу превратил в огромный концлагерь? Кто загнал в душегубки сотни тысяч людей? Фашизм в родстве со всей прошлой германской реакцией, но он особый ее вид, он ужасней всего, что было.
Чепыжин отмахнулся рукой:
— Фашизм силён, но есть предел его власти. Это надо понять. Не беспредельна власть фашизма над людьми! В основном, в общем Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать. Многих, конечно, фашизм душевно исковеркал, испакостил, но народ остаётся Народ останется.