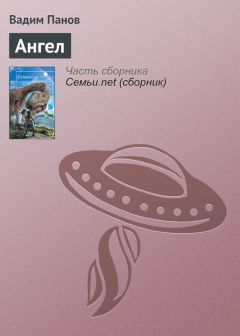Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие
Когда он возвратился, Катя с заплаканными глазами сидела у стола и писала что-то на почтовом листочке; написавши, отдала его отцу и прибавила: «Прочтите эту записку и пошлите её к Волгину. Знаю наперёд, что вы на неё согласны, потому что вам дорого счастье вашей дочери».
Александр Иваныч прочел следующее:
«Отец мой предоставил мне отдать руку мою тому, кого выберет моё сердце. Полюбила я вас сначала — может быть, и романически: мудрено ль? Тогда я только что сошла с институтской скамьи. Потом, с опытом жизни, рассудок и сердце уверили меня, что я ни с кем не могу быть счастлива, как с вами. Теперь ни в чём вас не обвиняю. Уважаю вас ещё более, прочтя ваши бумаги. Видно, Господь назначил мне утешить вас, сколько могу, за всё ваше прошедшее — я исполню свято этот долг. Приходите к нам сейчас.
Ваша навеки
Катерина Горлицына».
Ничего не сказал отец, прочтя записку, поцеловал дочь, благословил её и, запечатав послание, отослал с Филемоном к соседу. Верный ричард дожидался ответа. Радостный, как безумный, выбежал к нему Волгин, поцеловал его в лоб, всунул ему в руку пучок ассигнаций, сказал: «Иду!» — но, видя, что тот, ошеломлённый от таких невиданных щедрот, стоял всё на одном месте, почти вытолкнул его из двери. Через несколько минут Иван Сергеевич был у ног Кати… Детская улыбка мелькала на губах Александра Иваныча, и радостные слезы катились из его глаз.
Прошло несколько дней нетерпеливого и тревожного ожидания известия из Петербурга. Оно пришло. Вот что писал Ивану Сергеевичу дядя его:
«Твоё дело окончательно решено. Но Бог решил его, за несколько дней до того, по-своему. Пятого ноября отошла твоя жена в вечную жизнь. Перед смертью пришла в рассудок, узнала, где находится, потребовала к себе священника, исполнила все христианские обязанности, со слезами просила прощения, особенно у тебя, у всех, кого когда-либо обидела, пожелала тебе счастья (это были её последние слова) и скончалась тихо, на руках людей, совершенно ей чужих. Пускай будет её жизнь примером для многих! Подай ей, Господи, в селениях небесных мир, которым она здесь не наслаждалась!.. Посылаю тебе законное свидетельство о её смерти».
Когда Волгин передал Катерине Александровне и отцу её это известие и намерение своё отслужить панихиду по усопшей, невеста его вызвалась участвовать в исполнении этого священного и трогательного обряда.
Впоследствии времени она этой обязанности не пропускала ни одного года до конца дней своих.
Помолвка и обручение были через несколько дней и изумили весь город. Семейство предводителя, Пшеницыны и многие другие от души радовались этому событию. Сыскались, однако ж, люди, которые заметили, что дочери бедного соляного пристава выпало такое высокое счастье не по рангу. Селезнёв с отчаяния спешил уехать в отпуск.
В это время Катерина Александровна получила при своём женихе письмо — от кого бы вы думали? — от майорской дочери Чечёткиной.
— Что бы она могла ко мне писать? — сказала Горлицына, взглянув на подпись, — уж не из-за вас ли хочет начать со мною процесс?
Майорская дочка, расточив сначала изъяснения своего уважения и сожаления к Катерине Александровне, принялась потом честить Волгина самыми лестными для него эпитетами. И злодей-то он, и безнравственный человек, и свёл-то с ума жену, образец всех женщин, которую держит в своей деревне, едва ли не на цепи. Вместе с этим Чечёткина предлагала начать с ним процесс, для такой оказии рекомендовала отличного ходока-поверенного, который заставит вероломного обманщика, посягающего на честь и благополучие такой прекрасной девицы, какова Катерина Александровна, заплатить ей важную сумму.
Как узнала о семейных делах Волгина охотница до процессов, никто из читавших её письмо не старался исследовать. Довольно, что посмеялись над этим посланием, которое, однако ж, если б получено было несколько прежде, могло бы встревожить Горлицына и его дочь.
Когда невеста собиралась к венцу, Ване поручили надеть на её ножку башмачок. Говорят, что плутишка при этом случае не преминул поцеловать её ножку[370] и заставил Катю очень покраснеть. После свадьбы Горлицын вышел в отставку, предоставив лишние кули соли распоряжению своего преемника, и переехал к дочери в новую деревню её мужа[371], где был и прекрасный дом, и прекрасный сад, и протекала та же M-а-река, омывавшая берег, на котором стоял домик соляного пристава в Холодне. До глубокой старости наслаждался он счастьем видеть согласие и любовь обоих супругов. И мне раз, в юности моей, удалось провесть несколько дней в этой благословенной семье и видеть, как два маленькие внука и крошка-внучка барахтались с дедушкой на лугу. Та же детская, прекрасная улыбка, одушевлявшая лицо старика[372], не оставляла его до тех пор, пока не закрыла его последняя, брошенная на него, горсть земли.
В виду того места, где Катя и Волгин в первый раз познакомились близ переправы через Москву-реку, у подножия Мячковского кургана, поставили они скромный памятник. Не знаю, существует ли он теперь.
Комментарии
1
В «Семейной хронике» Аксакова упомянуто, что переписка Новикова с Софьей Николаевной имела большое влияние на её образование[373]. Мудрено ли, что молодой Пшеницын, живя ближе к Москве, имел случай столкнуться с этим замечательным человеком, который своими беседами внушил ему любовь к просвещению? Нашлась бы, конечно, не одна сотня подобных фактов, если бы их вовремя собирать. Мы увидели бы тогда, как он обильно сеял Божие семя на русскую ниву. Почему в подлинном рассказе Ивана Максимовича Пшеницына назван Новиков каким-то господином[374], мне неизвестно.
2
Так звали империалы времён Елизаветы и Екатерины, которых грудные изображения чеканились на монетах с правой и с левой стороны, как бы одно против другого.
3
Сам внук князя К-аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне всё это в 1836 году[375].
4
Такие войлочки были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12 года. Их заменили калиберные дрожки.
5
В десятых годах знавал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над нею смеялись.
Примечания
1
Текст повести печатается по прижизненному изданию: Лажечников И. И. Беленькие, чёрненькие и серенькие // Собрание сочинений: В 8 т. СПб., 1858. Т. 7. С. 1 — 262. Кроме того, была учтена первая публикация повести: Лажечников И. И. Беленькие, чёрненькие и серенькие // Русский вестник. 1856. Май. Кн. 1. С. 5 — 38. Июнь. Кн. 1. С. 458 — 493, кн. 2. С. 601 — 653. Июль. Кн. 1. С. 53 — 84. Сопоставление первой журнальной публикации повести и текста, вошедшего в собрание сочинений, позволяет предположить, что Лажечников сам редактировал произведение. Изменения коснулись некоторых автобиографических подробностей, стиля повести и орфографии. Существенные различия в текстах обоих изданий отмечены в комментариях. Текст печатается в современной орфографии и пунктуации с сохранением некоторых авторских особенностей.
Комментарии объясняют исторические, бытовые, языковые реалии, малопонятные для современного читателя. Кроме того, раскрываются автобиографические и краеведческие мотивы. Очевидная перекличка многих подробностей повествования с историей семьи Лажечниковых (Ложечниковых) и бытом Коломны XVIII — XIX вв. позволяет не оговаривать это обстоятельство в каждом конкретном случае.
2
Иван Максимович Пшеницын. — За фамилией «Пшеницын» скрылся сам Лажечников. Характерная низовая фамилия (как и Лóжечниковы — фамилия предков писателя) намекает на то, что Лóжечниковы были известные торговцы хлебом.
Временнúк — хронограф, летопись, описание минувших событий.
Душеприказчик — исполнитель последней воли покойного по его собственному распоряжению или по назначению правительства.
3
Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых. — В тексте повести, опубликованном в журнале «Русский вестник», далее следовало: «и написаны весьма неразборчивою рукой. Покойнику не раз доставалось от получавших его письма». Деталь явно автобиографическая, поскольку сам Лажечников обладал неразборчивым почерком.
4
Дела давно минувших лет! — Неточная цитата из Песни первой поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Двустишие «Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой» является, в свою очередь, переводом начальной фразы поэмы Оссиана «Картон».