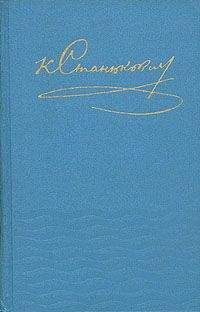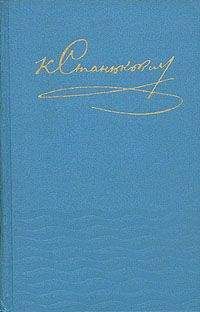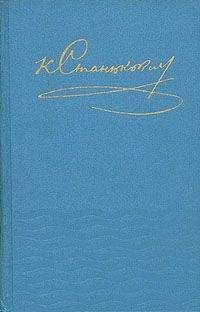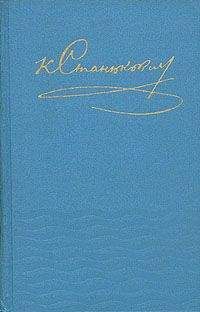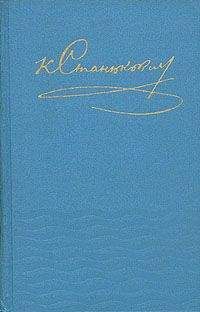Константин Станюкович - Избранные произведения
При входе доктора не в урочное время Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными, с выросшими желтыми ногтями, вопросительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.
— Ну что, братец, все знобит? — искусственно развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя какую-то неловкость перед испуганным взглядом матроса.
— Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! — с живостью отвечал Артемьев.
И, все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:
— Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие… Озноб только… не пущает.
Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилия, чтобы казаться при докторе бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора и больной хотел обмануть его.
Доктор, добродушный и мягкий москвич, еще не закаленный своей профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно небрежным тоном:
— В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было… И ты, конечно, поправишься… Об этом нечего и говорить… Я не сомневаюсь…
Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.
И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:
— Поправишся, конечно… Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег… А на корвете, брат, плохая поправка. Понимаешь?
— Куда же это на берег? — испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.
— А здесь в Брест, в госпиталь… Там отлично… Там живо поправка пойдет… А как поправишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой… Я тебе и бумагу такую дам.
Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.
На мгновение больной замер, словно пораженный.
Но вслед за тем он проговорил с отчаянной мольбой:
— Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с конверта. Дозвольте остаться. Явите божескую милость!
Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться…
— Ваше благородие! Будьте добры… Уж ежели бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!
От волнения он закашлялся. Из груди его вырывался зловещий глухой шум и что-то внутри клокотало. Его чудные большие глаза глядели на доктора с такой мольбой, что молодой доктор, видимо, колебался.
— Но послушай, Артемьев… ведь там тебе было бы лучше!.. — снова начал он.
— На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь — свои ребята. Пожалеют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить… а там?.. Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться. Я скоро поправлюсь, вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! — молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь и за то, что не может быть исправным, лихим матросом.
Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:
— Ну, ну, не волнуйся, брат… Уж если ты так не хочешь, оставайся!
Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:
— Век не забуду, ваше благородие!
Снова доктор пошел в капитанскую каюту и, рассказав капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.
Капитан охотно согласился и заметил:
— Вот скоро в тропиках будем… Воздух чудный… быть может, Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?
— К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! — с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.
— А какой славный матрос был! — пожалел капитан.
IIКогда на баке — этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни, — узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, — все матросы искренне порадовались за товарища.
Со всех сторон сыпались замечания:
— Уж коли помирать, так, по крайности, между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!
— Это что и говорить… Лучше прямо в море бросить!
— Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!
— И без попа… Так без отпущения и отдашь душу…
— Ишь ведь, что было выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!
— Добер, а поди ж…
— Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится, — авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубчонку, набитую махоркой.
И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:
— То-то оно и есть. И умен и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то: к французам! И выходит, что дохтур сам вроде как быдто француз.
Все на минутку примолкли, точно нашедши разгадку поведения доктора. Приговор такого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.
И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой «француза».
— А что, милай человек, господин фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того… помрет?
С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой коренастый чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которого свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балагура и сказочника, бесшабашного марсового, ходившего на штык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.
Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами, весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым донжуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, перенятую им от докторов, заложил палец за борт своего сюртука и не без апломба ответил:
— Туберкулез… Ничего с ним, братец, не поделаешь.
— Чихотка, значит?
— Пневмония — одна форма, туберкулезис — другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть!.. — продолжал фельдшер, любивший-таки огорошивать матросов разными подобными словечками. — Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву не долго жить.
— Ну? — испуганно воскликнул Рябкин.
— То-то ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обработает, а не то что человека.
— Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! — промолвил Рябкин, и обычная веселая улыбка сбежала с его лица.
И все, кто тут был, пожалели Артемьева.
— Рано, любезный, хоронишь! — строго и внушительно обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. — Бог-то, может, не послушает вас с дохтуром, а вызволит человека.
— Да я-то что? По мне, живи на здоровье. Тут не я, а наука!
— Наука! — презрительно протянул Архипов. — Господь и науку обернет, ежели на то его воля…
И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша вышел из круга.
Фельдшер только безнадежно пожал плечами: дескать, нечего с вами разговаривать!
IIIНедели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении, мягким пассатом и свежей влагой океана.
И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Недаром же моряки зовут плавание в тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то есть менять положение парусов. И для матросов — это пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте не повахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, — словом, не приходится быть постоянно начеку. На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, лясничая между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любуясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фрегатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд — ночи, когда вся команда спит на палубе, — вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.