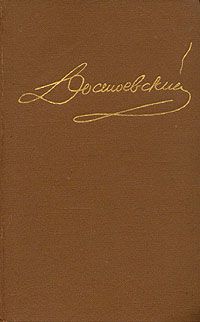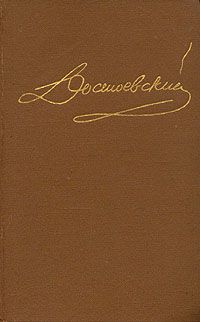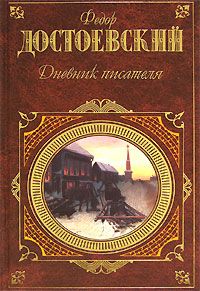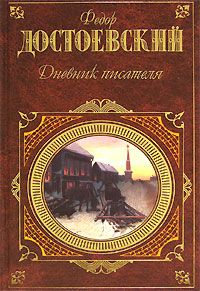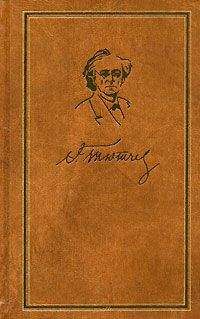Федор Достоевский - Том 12. Дневник писателя 1873. Статьи и очерки
Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерною, почти сатанинскою гордостью.
«Я воспользуюсь примером почтенного коллеги (то есть моим), говорит он, — когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда, заняться тоже „картинками“ (какое
презренье!), — но в данный момент мне нет надобности пользоваться преподанным мне примером (то есть у умного человека и без „него“ всегда много мыслей), потому что хоть у нас в Москве тоже „жар и пыль“, „пыль и жар“ (начальные слова моего фельетона-для того чтоб еще раз устыдить меня) — но из этой пыли (а-а! вот тут-то теперь и пойдет, вот он покажет нам сейчас, что может умная московская фельетонная голова вывести даже из „этой пыли“ — сравнительно с петербургскими), но из этой пыли и из-под этого жара (это что же такое „из-под жара“?) можно при известной внимательности усмотреть (слушайте! слушайте!), что жизненный пульс нашей белокаменной, значительно слабеющий летом, начинает, так сказать, оживляться, с тем чтобы, оживляясь все более и более, достигнуть в зимние месяцы той интенсивности, дальше которой уже не может идти пульс московской жизни».
Вот так мысль! Вот оно как у нас в Москве-то! А мне-то, мне-то какой урок! А знаете что, учитель? Мне-то вот и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о нем, именно чтоб сделать и ваш фельетон занимательнее (а то что интенсивность-то!), может быть, даже позавидовали моему успеху в Зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы вы так копаться и размазывать и столько раз поминать об этом; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали…
«…всё же мы доросли до того по крайней мере, чтоб разнюхать, когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора…»*
Ну так чем же пахнет?*
XV
Нечто о вранье
Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали*; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно — не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»… впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на всё это мне ответит: нет, то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.
«Э, вздор! — скажут мне опять. — Лганье невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что всё очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.
Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказанье, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю)*. Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический.* В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.
Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.
Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить*. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Всё это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто веьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и всё это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреоборимое; но, в сознании, русские — хотя бы и самые полные самоотрицатели из них — все-таки с ничтожностию своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, — рассуждает русский, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом иль англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.