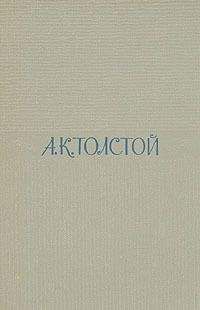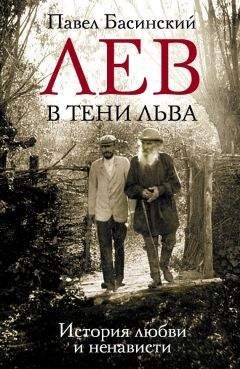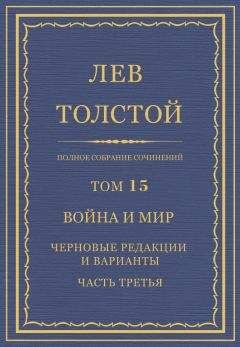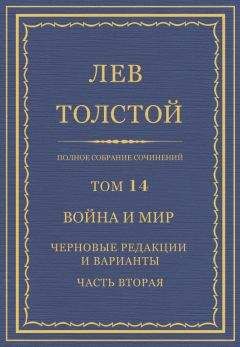Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
Ночь была темная, облачная, изредка проглядывал месяц, костры пылали всю ночь, в обоих лагерях на расстоянии пяти верст друг от друга. У нас ждали сраженья, но четырехдневное наступление без боя и ожиданье сраженья делали приготовления менее заметными.
В 5 часов утра — еще было совсем темно, зашевелились на всем пространстве колонны пехоты, артиллерия и кавалерия. Дым от костров, в которые бросали всё лишнее перед выступлением, ел глаза, было холодно и темно. Офицеры выпивали торопливо чай, солдаты отбивали ногами трепака, согреваясь, и стекались против огней греться и закуривать.
Австрийцы колонновожатые служили предвестником выступления. Как только показывался австриец, значило итти, и солдаты сбегались в ряды от костров, прятали в голенищи трубочки и строились. Офицеры обходили ряды. Деньщики снимали палатки и увязывали. По команде трогались, во всех рядах крестились, и шелестил топот тысячей ног и двигались колонны, не зная, не подозревая куда и ожидая со всех сторон неприятеля. Но, сталкиваясь с другими колоннами, приятное чувство распространялось по рядам, чувствовалось, что наших очень много. Опять впереди скомандовали «стой» и прошло три часа — проходила кавалерия. Но наконец шли дальше, еще дальше, прошли под гору, поднялись, какой то лесок, или сад, или деревня попали вправо, наших уж не попадалось. Не попадалось и неприятеля и, по времени и направленью судя, прошли уже версты четыре по направленью к неприятелю. Жутко становилось. Солдаты шутили и курили. Стало рассветать. Впереди шла кавалерия, не русская по мундирам — это были австрийские эскадроны Кинмеера. Приятно было думать, что прежде начнет дело кавалерия и что неприятель не застанет нас врасплох, но вот кавалерия взяла вправо и пехота осталась одна. Впереди ее была деревня. Рассвело уже хорошо и перед деревней виднелись стрелки. — Не наши ли? — Но вот проскакал генерал Дохтуров[576] с адъютантом, офицеры забегали по рядам. Лица всех переменились, на всех один отпечаток важности минуты.
— Ребята, не стрелять без команды, — прокричал капитан. Ребята — солдаты — ощупывают сумки с зарядами и оглядывают ружья.
Вдруг дымок, гул и ядро, пролетев[577] справа по кавалерии, зарекошетировало.[578] <Один, другой, третий выстрел и загорелось дело на крайнем левом фланге в колонне[579] Кинмеера, которая атаковала Тельниц. Пехота спешит на выстрелы и только входит под огонь. Дело завязалось на левом фланге, к [?] Тельницу Кинмеера ждал [и] более часа. Буксгевден с колонной Дохтурова, вместо того, чтобы сейчас притти, приходит часом позже[?]. Буксгевден был пьян. Дохтуров ждал более двух часов колонны Ланжерона.>
Было 8 часов. Капитан Шишкин был в следующей слева колонне Ланжерона, которая должна была тотчас поддерживать Дохтурова. Он встал также в 5 часов утра, обдумав всё хозяйство роты с фелдвебелем. Он, как опытный человек, отослал часть обоза в вагенбург и велел разобрать сухарей на четыре дни. Хотя это было и запрещено, он считал это лучшим. Войска Ланжерона шли в следующей последовательности [?]: 8-й Егерский, Выборгский, Пермской и полк Ш[ишкина], Курский. За ними шла бригада Каменского, Фанагор[ийский] и Ряжской. Шишкин перекрестился, осмотрел сам все ряды роты[580] и пошел рядом. Хотелось итти поскорее, поскорее. Справа слышалось движенье колонны Дохтурова. В темноте заметно было только, что они расходились под острым углом. Отстав несколько, скомандовали спереди «стой», поставили ружья в козлы и началось то же, что было вчера. Офицеры собрались около артиллерии, пошли разговоры. «Вам хорошо: на лафете посидим,» — юнкер сидел на лафете, — «да и закурить есть обо что — фу, черти, немцы, своих дорог не знают, холодно». Генерал проехал с видом, что ни он, никто не виноват, впереди шелестило. Офицер ходил посмотреть.
Офицеры Курского полка, составлявшие арьергард, сошлись около забора каменного и закусывали, солдаты тоже лежали.
— Я под стенку, дело то лучше будет, — говорил прапорщик Акимов.
— Однако, у меня в роте одного вырвало, — сказал Шишкин. Страшно было офицерам и тем более солдатам говорить о их положении, но все чувствовали, что они заброшены сюда бог знает зачем, и что начальство забыло про них. Ланжерона они не видали ни разу после задержки на дороге. Туман поднялся клубами. Иные становились на забор и, храбрясь, разглядывали неприятелей, перестреливавшихся спереди и в Сокольнице, которого высокой замок ясно стал виднеться.
— Вон наши каменские показались. — Акимов, молодой человек, храбрый (излишне возившийся), влез тоже на забор.
— А нас перебьют, господа, уж я вижу, — выразил он по неопытности общую мысль, которую никто, однако, не высказывал. — Чем бы нам вместе ударить, мы все опоздали и видно, что нас обойдут. Перебьют всех. — Шишкин рассердился.
— Не знаю, как перебьют, а побить побьют таких молодчиков, — сказал он грубо, — что без году неделю служат и тоже рассуждают, ничего не понимая. Начальство знает, что делает. Эй![581] горнист, огня!
Ядры изредка перелетали через кружок офицеров.
— Вот вы лучше не кланяйтесь! — прибавил майор, подтверждая слова Шишкина, — а генералы свое дело пусть делают, а мы свое.
— Смотрите, смотрите, и то, что то там затевается, — сказал кто то и, как будто в опровержение Шишкина, справа закипела перестрелка и через лощину, которая одна видна была справа, показались быстро проходящие одна за другой колонны. Присмотревшись, рассмотрели, что это были французы. Было девять часов. Наполеон, увидав, что большая часть наших войск спустилась в лощину Голдбаха, в которой находилась группа офицеров, про которую мы говорили, и отделялась от Праценских высот, которые он хотел атаковать, более чем верст на пять закрытые еще холмами, выехал вперед и веселый, счастливый, сияющий отдал приказания маршалам и приказал атаковать. Панаши свиты заколыхались, поскакали адъютанты. Наполеон был в том особенно веселом, счастливом расположении, в котором бывает каждый человек изредка в ясный, солнечный день после хорошего, как детского, сна, когда лицо кажется прекрасным, все морщины сглажены, глаза блестят ровным, спокойным блеском и губы складываются, без усилия и просто, в улыбку или в бесстрастное выражение, когда всё запутанное кажется ясным, и всё представляется только в круге возможной и увенчанной успехом деятельности, когда человек верит в себя, в свое будущее и счастье, и когда, вследствии этой веры, всё для него легко и возможно. Наполеон в день Ауст[ерлицкого сражения] был в этом редком, ясном настроении духа. Красота и счастливое спокойствие (не гордое) его лица поразило в это утро всех окружающих и по тому таинственному, непризнаваемому людьми психологическому телеграфу, как молния, разнеслась и сообщилась каждому m-r Mussart и Jobard великой армии.[582]
В это время Волхонской, сопровождая Кутузова, а Кутузов, сопровождая императора, выехали к 4-ой колонне на Праценские высоты. В главной квартире встали гораздо позже, чем вчера[?] [1 неразобр.]
Итак, четыре колонны левого фланга уже спустились с высот, чтобы атаковать французов, когда императоры[583] вышли на серое, туманное утро, чтобы садиться верхами и ехать в поле — на Праценские высоты, с которых должно было быть видно поле сражения. Лица главного штаба выехали весело на рассвете, сожалея только о том, что им не удастся принять участие в самом бое. Кутузов был уж давно на лошади и, в сопровождении своих адъютантов и женоподобного Волхонского, сам вел колонну на Праценские высоты. Колонна эта должна была занять место Ланжерона и Пржшебышевского, сошедших с нее. Кутузов был в этот день совсем не тот главнокомандующий, каким его знали прежде в Турции и после при Бородине и Красном. Не было в нем этой тихой, прикрытой беспечностью и спокойствием, старческой силы презрения к людям и веры в себя, светившейся всегда из его узких глаз и твердо сложенных тонких губ. Он был скучен и раздражителен.[584] Он отдавал приказания только о движении, но ничего не приказывал.
— Allez voir, mon cher, si les tirailleurs sont postés,[585] — сказал он Волхонскому.
— Ce qu'ils font, ce qu'ils font,[586] — сказал он.
Волхонской поскакал и приехал с известием, что впереди их стрелков не было. Распорядились. Стало светать. Разные были люди в главной квартире: 1) кто старался всё делать медленно и обдумать всё, до чулок, 2) кто торопился, искал шевеленья [?],
3) кто был глупее и тупее обыкновенного, 4) кто готовился на подвиг всеми силами души, 5) кто ничего не видал, не слышал, всё было в тумане, 6) кто был, как всегда, болтал по французски и ничего не понимал, 7) кто уж перестрадал и был спокоен, как Волхонской.
Наконец заслышались выстрелы. Поднялись уши у людей и лошадей, показались панаши государей. Веселы, чистые, молоды, солнце — ярко, лошади чудесны. Кутузов скучен. Началось, (улыбка) — да.