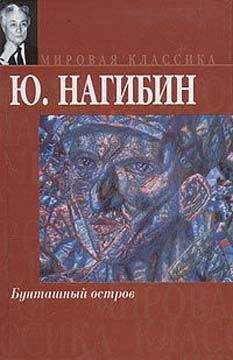Юрий Нагибин - Богояр
Таня не вполне сознавала, что ее игры вокруг домашнего очага - своего рода попытка диалога с матерью, не происшедшего в жизни. Она как бы вызывала мать на разговор, в котором вместо слов участвовали предметы домашнего обихода, блюда, хозяйственные заботы. И конечно, ей хотелось одобрения.
Однажды во время обеда она поменяла место за столом. Тут не было заранее обдуманного намерения, ей показалось, что так будет удобнее разливать суп из фарфоровой миски. Это было место матери - на торце стола. Взяв в руки тяжеленький серебряный черпак, Таня почувствовала странную, чуточку стыдную нежность, какое-то влажное тепло внутри себя, оттого что она сидела в кресле матери и повторяла ее жесты. Она знала, что очень похожа на мать в эти минуты. Слишком похожа - отец вдруг разрыдался и опрометью кинулся из-за стола.
- Дура,- сказал Пашка.- На кой хрен тебе этот спектакль? Зачем ты плюхнулась в кресло матери?
- Не твое собачье дело.
- Нарочно хотела отца завести?
- Пусть привыкает,- буркнула Таня.
Если уж такой эгоцентрик, как Пашка, мгновенно все понял, значит, из нее в самом деле глянула мать.
Она осталась за столом на месте матери, и все к этому привыкли, и отец уже не плакал, не выбегал из-за стола, она и сама привыкла и перестала ощущать жесткое кресло узурпированным троном.
Другая жизнь двигалась дальше, хотя правильнее было бы сказать, что она стояла, а на нее двигалось время, обтекая со всех сторон и создавая тем иллюзию движения. С потоком времени принесло разбежавшихся друзей-собирателей. Словно ладожский лед, дружно надвинулись знакомые злачные места, застолья, домa, набитые антиквариатом, иконами и картинами, все было не хуже, не лучше, чем в прежние дни. Но, может, все-таки хуже, потому что не лучше. Гэдээровский воитель, поощренный ее письмом и фоткой, разразился несколькими посланиями, непревзойденными по неграмотности и глупости, каждое - с дурацкими зайцами. Таня решила, что не будет больше Элоизой этого Абеляра. Пришел благодарный, но довольно грустный привет с химии; Бемби обнаружилась почему-то в Мариуполе, но и там ее не оставляли заботы о "техасах" и кроссовках. "Нет больше слов живых на голос твой приветный,- пробормотала Таня, дочитывая мариупольскую эпистолу.- Оставим все это в детстве. Пора взрослеть".
Но как это делается, она не знала и продолжала плыть по течению: институт, домашние дела, вечерние сборища, доставлявшие все меньше удовольствия...
Отец неутомимо шарил по квартире. Он шуровал в старом шкафу со всякой рухлядью, вынесенном в коридор в ожидании окончательной ликвидации. В этом ожидании "дорогой, глубокоуважаемый" провел уже с десяток лет, набитый старой одеждой, сношенной обувью, сломанными зонтиками, пустыми коробками и прочей дрянью. Не раз обшаривал он и антресоли на кухне, шурша черновиками материнских научных трудов, руша папки с рабочими материалами. Не раз слышала Таня, как он щелкает ящиками в комнате матери и роется в ее вещах. Он делал это с маниакальным упорством, уверенный, что доищется до каких-то секретов.
- Что ты ищешь? - спросила она однажды, скрывая раздражение.- Дай я тебе помогу.
- Я ищу свои письма к матери. Не понимаю, куда она их задевала.
Он врал, и Таня сказала жестко:
- Выкинула или сожгла.
Он не обиделся, подтвердив ее догадку. Свои письма он давно нашел, если их вообще пришлось искать.
- Люди нашего поколения бережны к переписке. Это у вас, нынешних, нет ничего святого.
- Давай искать вместе.
- Спасибо,- сказал он натянуто.- Это не так важно. У тебя и без того много хлопот.
- Только не повторяй, что я маленькая хозяйка большого дома.
- Хорошо, что предупредила,- улыбнулся отец.- Я как раз собирался это сделать.
Он прекратил поиски - при ней. Когда же она уходила, что случалось частенько, продолжал настойчиво искать. И как ни тщательно заметал он следы, обмануть дочь не удавалось.
Таню заинтересовала таинственная деятельность отца. Что он искал с таким нездоровым упорством? Молодые фотографии, какие-то мелочи, бессознательно сохраняемые материальные знаки минувшего, которые ничего не скажут другим людям, но полны глубокого значения для знающих их историю: сломанный гребешок, клипса, флакончик из-под духов, хранящих тень аромата, шпилька, театральная программа, пригласительный билет, засохший цветок, погашенные марки. Каждый человек с годами обрастает множеством совершенно ненужных мелочей, которые почему-то не выбрасывает. Но странное дело, после матери "вещественных доказательств" былого не осталось. Неужели она так тщательно прибирала за собой, не желая никакой памяти о прожитом? Осталась ее рабочая корзинка с иголками, булавками, нитками, лоскутками материи, кнопками, но идеальный порядок исключал лирическую память. Остались носильные вещи, рукописи, парфюмерия, с десяток книг, которые она любила, пишущая машинка и "Зингер" с ножным приводом, единственная старинная вещь в доме. Если исключить книги, сборники стихов, - все другое мало говорит о ней: человек порядка, труженица, и все. Вполне вероятно, что отец хотел найти себя в каком-то укромье Анны, поверить, что он присутствовал в ее внутреннем мире. Отношение отца к матери выражалось одним словом: любовь. Отношение матери к отцу - целым рядом слов: тепло, привязанность, обязательность, забота. Но все эти слова стоили неизмеримо меньше того единственного.
А что, если тут совсем другое - найти и уничтожить. Он не хочет, чтобы какие-то обстоятельства их жизни вышли наружу, стали известны даже близким людям. Мать была из пишущих ученых. Она владела словом и охотно писала для газет, журналов, занималась популяризацией. Вполне вероятно, что она вела дневник, ну, хотя бы просто записи, и они куда-то подевались. Очевидно, отец знал, что такие записи существуют. Уничтожить их мать не могла, она же не знала, что путешествие на Богояр окажется в один конец. Вот он и ищет.
А коли так, то почему бы не начать свои поиски, ведь ей тоже хочется знать, кем было самое близкое на земле и, такое далекое существо - ее мать. Отец неправильно ищет. Он исходит из того, что матери было что скрывать, что она ждала обыска и нашла какой-то необыкновенный тайник. Сыщицкая психология. Но у матери не могло быть никаких стыдных тайн, ей в голову не приходило, что кто-то будет рыться в ее вещах, поэтому она ничего не прятала, а просто убрала. То, что не предназначено чужому взгляду, нехорошо оставлять на виду, испытывая чужое любопытство и чужую деликатность, этого требует элементарная вежливость. Не надо бросать где попало ни личных писем, ни лифчиков.
Таню не переставало удивлять, с какой сомнамбулической уверенностью она прошла в комнату матери и вынула из шкафа круглую кожаную коробку с шитьем. Для настоящего шитья мать не располагала временем, хотя любила и умела шить. Для нее было удовольствием пришить пуговицу, заштуковать дырку, укоротить рукава или брюки. Она говорила, что с детства обожает шершавую шапочку наперстка и вкус перекусываемой нитки. Таня разгребла все шелковинки, шерстинки и обнаружила плоский сверток в истончившейся хрусткой газетной бумаге. Он не был даже перевязан.
Таня убрала коробку в шкаф, а сверток взяла к себе. Осторожно развернув его - бумага от времени стала хрупкой, крошилась,- она обнаружила несколько любительских фотографий, коротенькое, в несколько строк, письмецо, розовато-дымчатый, прозрачный на просвет камешек - сердолик, засохшую веточку тамариска и два официальных бланка. Как истинное дитя своего времени, Таня прежде всего обратилась к бланкам. Содержание их было идентично - разница только в датах: отказ сообщить что-либо о судьбе Канищева Павла Алексеевича, поскольку запросы о пропавших без вести принимают лишь от близких родственников. Ну вот, сказала себе Таня, теперь я знаю имя человека, которого уже вычислила в жизни матери.
Она стала разглядывать фотографии двух незнакомых людей: юноши лет двадцати, которого звали Павел, и девушки его лет, которую звали Анна и которая для нее была почему-то "мама".
Она с жадностью вглядывалась в молодые черты матери, ища сходства с собой. Они, конечно, похожи, хотя мать была выше, худее, легче. Некоторая отяжеленность пришла к ней лишь в последние годы, она очень долго сохраняла молодую стать. Но и та стройная, гибкая Анна, которой она восхищалась и завидовала, сильно отличалась от девушки на фотографиях. У матери было строгое, невеселое лицо, а эта, еще не ставшая ее матерью, светилась радостью, бесилась от радости. Улыбка прямо-таки раздирала ее большой красивый рот. "Боже мой, что же надо чувствовать, чтобы так скалить зубы? " - думала Таня с завистью на грани злости. Если, б она не знала органической естественности матери, полного отсутствия в ней показного, наигранного, она бы заподозрила ее в ломанье. До чего же здорово было ей с этим Павлом Канищевым! И до чего же не здорово, когда она пыталась разыскать его, пропавшего без вести!