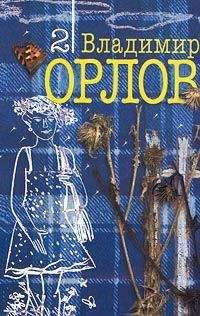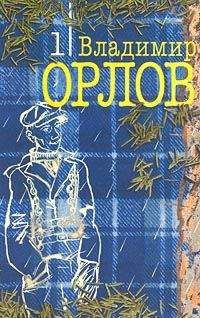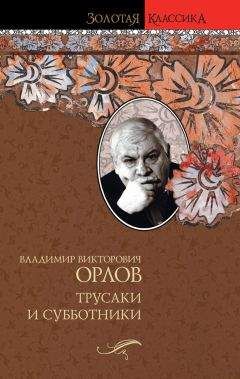Раиса Крапп - Ночь Веды
Мать удивленно и обеспокоено глянула на него, а он, склонившись к окошку, глядел на двор. Хороший денек занимался: ночной ветер утих, разогнав снежно-дождевые тучи, в бездонной небесной голубизне купалось солнце.
Ярин пошел к двери, на пороге обернулся:
- Прости меня, бедная матушка моя.
Его уже не было, а мать как пристыла к полу - стояла, и слезы беспрестанно текли по щекам. Она утирала их передником, и с тоской, обречено думала почему-то, что никогда больше не подаст она сыну кружку молока.
Ярин шел в одной рубахе и будто заново видел заваленную снегом улицу, с малолетства знакомые соседские дома, деревья, заборы. Мысли плыли спокойно, неторопливо, не мешая ему размышлять о том, чей голос говорил с ним в Храме? Ярин не помнил даже, мужской он был или женский, и одно только помнилось ясно - как чудно прекрасен был он, один только звук его целительным бальзамом проливался на больную душу Ярина.
Люди оборачивались, выходили со дворов, озадаченно глядели ему в след. Сосед негромко стукнул в окошко другому, молча махнул рукой: "Выдь-ко! Погляди", и промежду прочим, вроде как, подались до народу, что собрался кучкой, спрашивая один другого - чего это? Ребятня испуганно прыснула с дороги в разные стороны, попрятались во дворы. Ярин только поглядел с интересом - странно, он как будто совсем забыл, что существуют дети, настолько мало они его интересовали.
Кажется, кто-то следовал за ним в отдалении, толи из любопытства, толи по своим делам: Ярин не оборачивался - суете не было места в его сегодняшнем состоянии.
Остановился он в центре деревни, там, куда народ собирался, чтоб выслушать важную новость, княжье распоряжение или сговориться об каком-нито общинном деле. Здесь же однажды всенародно судили вора. Ярин помнил, как угрюмо и затравлено взглядывал он на людей, и помнил, как презирал тогда этого неудачника. А вот за что, разобрать было трудно: то ли что воровал чужое, то ли, что попался.
Ярин вышел в центр просторной площади и встал на колени. Запрокинув голову, поглядел в высокое, необычайно чистого цвету синее небо. И устремил в него отчаянную мольбу, вложив в нее все существо свое: "Боже Всевластный! Яви мне сегодня последнюю милость Твою!"
Когда ослепшими от яркости глазами глянул опять вокруг себя - разобрал только черные силуэты. Ярин закрыл заслезившиеся глаза, но открыл их снова. Он хотел глядеть в лица односельчан, кого знал всю свою жизнь - и в глазах остались слезы.
...Когда вокруг него образовался просторный, но плотный людской круг, Ярин заговорил. Не громко, без усилия, но слова доходили до каждого.
- Люди, примите покаяние мое... Нет силы моей боле...
Так, стоя коленями в снегу, опустив повинно голову, говорил Ярин, а люди цепенели в молчании. Ничего не оставил за душою Ярин. Разве одно только - ни разу не назвал имен бывших приятелей своих, ни на кого не захотел переложить даже малой толики своей вины.
- ...Суда вашего хочу. А просить одно лишь смею - смерти. И вас, люди, прошу, и Бога.
Умолк Ярин. И люди потрясенно молчали, глядя на Ярина-гордеца, Ярина, пришедшего к ним с исповедью. Наконец, вперед ступил староста.
- Уведите его в холодную покуда...
Когда Ярина увели, люди загудели. Долго судили и рядили, спрашивали друг друга, не находя ответов. Тогда староста велел всем думать до утра, а завтра собраться на суд. Но и назавтра не довелось им судить Ярина - пошли за ним, да вернулись скоро, стянули шапки - Бог рассудил по-своему.
Ярин лежал, вытянувшись на широкой лавке. Лицо его было чистым и ясным, как прежде, когда был он - глаз не оторвать. Смоляные, шелковые кудри рассыпались вокруг головы. На губах будто улыбки тень лежала.
- Видать, очистил душу, бедолага, и принял ее Господь... - пробормотал кто-то. И никому невдомек было, что в самый последний миг почудилось Ярину, будто к нему, в настывший за долгую зиму, в сумрачный подвал, куда едва-едва сочился тусклый свет, вдруг заглянул кусок синего неба... А может, и не в подвал, ведь сама душа Ярина мало чем от него отличалась...
Глава пятьдесят восьмая,
маленький найденыш
Весна в тот год, и вправду, пришла рано. Уже в марте синицами зазвенели капели, хотя присловье остерегает: марток! надевай трое порток! Солнце заиграло, щедро осыпая землю теплыми стрелами лучей. Снежный покров, еще намедни вроде бы богатый, как из лебяжьего пуха тканый, весь вид потерял: посмурнел, съеживаться стал. Глядь - а зимнее покрывало уж прорехами поползло, издырявленное озорными лучами-стрелами!
Едва лишь показалась в проталинах прошлогодняя пожухлая трава, мигом выскочили скрозь нее к солнышку зеленые иголки новых ростков, раскрыли теплу ладошки-листики. Вскоре расцветилась земля желтыми да лиловыми цветами первоцветени, что в нетерпении, не дожидаясь, когда сойдут снега, выбрались из мохнатых своих, будто шерстяных одежек. А там и нежно белые веретянки закачались на тонких ножках - столь хрупкие, слабые, отважные на удивление! Семейки солнечно желтых приземистых дуболисток встали на пригреве. Еще чуток погодя поляны стали ярко синими от дружно поднявшихся медвяниц. Ах, любо и глазам, и сердцу! Как будто всеми своими проявлениями природа говорила: "Смотрите, сколько красоты в мире, не одна только лютость. Живите, радуйтесь, умейте опять прорОстить в своих душах ростки любви, радости и красоты..."
Течет Время-река, река Забвения. Забываются морозы, согреваются выстуженные сердца...
Правда, случались еще ненастные дни - видно, Зима, уходя, напоследок расплевывалась злобно. Пронеслись над зеленеющими полями снежные заряды, ветер хлестнул плетьми ледяного дождя... А Весне что? Умылась, разрумянилась, еще ярче засияла, нарядней.
После этих последних самых непогод, решил Иван, что приспело ему время опять пастушьим ремеслом заняться - ведь уходить из Лебяжьего у него и думки не было. Травы, правда, еще не обильно для пастьбы наросло, но он торопился выгнать стадо на выпаса - чтоб скотинка тоже теплу весеннему порадовалась, на солнышке ласковом погрелась, вольный ветер ноздрями поймала. Да и травки молодой, хоть не досыта, да пощиплют все ж.
Вот в те дни и произошел в Лебяжьем еще один случай, потрясший всю округу.
...Солнышко еще за верхушки дальних елок цепляется, а Иван, торбу на плечо, хлыст за пояс и пошел по улице, песенкой немудрящей своей свирельки подгоняя нерасторопных хозяек. Идет Иван, светлый, как само утро. И ковыльные волосы его так же, как в день встречи с Аленой, крылом спускаются на лоб, лежат над разлетом темных бровей... И по-прежнему приветлив, глаза улыбаются бабам да девкам, что скотинку свою со дворов в стадо гонят. А все-тки, другой он уже. Вроде немного прошло времени, как впервой в пределы Лебяжьего ступил, а изведал он с тех пор столько, что иному и за всю жизнь Господь не даст: и горькая ненависть глаза пеленой застилала, и любовь познал такую, что смерти сильней, и умирал, и воскресал, и хоронил, и опять обретал... И вплелись в волосы серебряные нити. Да в ковыле-то серебро не видно. И сердце, страданием умудренное, тоже от сторонних глаз сокрыто. Но что чужую боль теперь как свою слышит, что без зову первым на помощь придет, про это объявлять на сходе не надо, люди так чуют... И любим пастух на селе пуще прежнего, не чужак теперь - своим стал. А выпадет повстречать его с утра, улыбнется Иван - вроде и день заладился. Одно слово - светлый человек.
Потом на деревне думали и говорили, что может за то и послал Бог Ивану утешение - найденыша.
А дело так было. Ясным и студеным утром пригнал Иван стадо на большой луг, там почему-то трава скорее поднималась, толи солнце пуще пригревало, толи что... А луг этот до самой опушке лесной пролег. Вот на эту опушку и вышла из лесу старая олениха. Но диво не в том вовсе. С оленихой-то рядом увидал Иван ребятенка! В одной рубашоночке тоненькой шел он, путаясь и спотыкаясь ноженками в сухой, прошлогодней траве. Босый, когда в местах укромных снегу еще довольно лежало!
Иван пока в деревню торопился, все боялся, как бы не помер малец от холоду, на голом теле отогревал его и ужасался, что тельце маленькое, легонькое холодно как лед, и за все время не ворохнулось ни разу.
Принес дитенка к Алениной матери, ввалился в избу, перепугав ее видом своим заполошенным. К слову сказать, он тут давно уж своим стал, она сынком его звала, а он ласково говорил - матушка. Сперва приходил помочь с сеном управиться, зарод с лугов привезенный, до ума довести. Потом зима морозами строжиться зачала - дровец для печи наколоть заглянул. Тут снегу обильно навалило - откидать со двора надобно, дорожки размести. А вскоре женщина, от горя еще не отойдя, занедужила крепко. Иван и вовсе стал дневать и ночевать рядом с хворой, выхаживал ее, Аленины советы и наставления в точности исполняя. Да что там! уже одно общее горе сроднило их крепко. Вот потому находку свою Иван сюда принес. А куда же еще?
- Ох, матушка, глянь Бога ради, живой ли он?