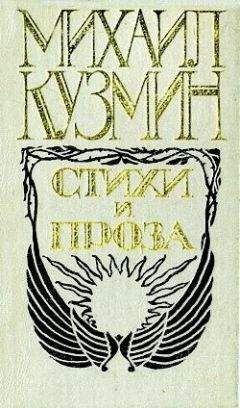Герай Фазли - Ночное солнце
Наконец шаги приблизились и замерли возле нее, и Гюльназ ощутила на лице горячее дыхание своего спасителя. Не только на лице, это она почувствовала всем своим существом. Этот человек, что-то бормоча про себя, поднял ее на руки. Осторожно принес и уложил на постель. Да, все верно. Тюфяк еще хранил тепло ее тела, одеяло было горячим. Спаситель одной рукой накинул на нее одеяло, другой нащупал пульс. Гюльназ все это слышала, она все еще была не в состоянии открыть глаза, вымолвить слово. Ей хотелось только одного, чтобы спаситель еще раз прикоснулся к ней, согрел ее руки своими ласковыми ладонями. Но он, оказывается, был способен на большее. На какое-то мгновение он отошел от кровати, пошарил где-то в углу своими большими теплыми руками, Гюльназ слышался какой-то странный, загадочный шелест. Что-то шуршало - мешок ли из грубой ткани, торбочка ли или же что-то еще. Может, это та самая продовольственная сумка? Где-то закипала вода. Звякнула жестянка. Наконец он снова приблизился к ее кровати. Подложил большую и теплую руку ей под голову, приподнял от подушки.
- Гюльназ-ханум!..
Она узнала этот голос. "О боже! Сергей!.. Наш дорогой друг... Как хорошо, что ты пришел. Как хорошо, что нашел меня..."
- Пейте, Гюльназ-ханум, это шербет. Еще немного... вот так... еще глоток...
Он поднес полную кясу к ее бескровным губам. Медленными глотками Данилов поил ее только что приготовленным шербетом. И Гюльназ ощущала, как из кясы в ее тело вливался не шербет, а жизнь. И потому понимала, что оживает с каждой минутой. Когда кяса была опорожнена, Данилов опустил ее голову на подушку, а сам, снова открыв притягательную сумку, вытащил оттуда сухари, сухое молоко, колбасу, яичный порошок. Он хорошо знал, что людям, долгое время голодавшим, нельзя сразу давать много еды. Поэтому отложил в сторону всего понемногу, по небольшому кусочку. Как только Гюльназ придет в сознание, он сам будет медленно кормить ее.
* * *
Гюльназ лежала в забытьи до самых вечерних сумерек. Данилов догадывался о ее душевном потрясении. Надо было переждать. Наконец она открыла глаза:
- Сергей, наш дорогой друг...
От этого горячего шепота сердце Данилова дрогнуло. В то же время затеплился огонек надежды. Кризис миновал.
Взяв в ладони слабую руку Гюльназ, он так же горячо откликнулся:
- Все будет хорошо, моя дорогая!
Потом заглянул в черные горящие глаза, устремленные на него с благодарностью, и будто увидел в них свое отражение. В них были и боль, и тревога. Эти глаза, наполнившие его сердце огромной, как мир, печалью, теперь дарили ему такую же огромную, как мир, радость.
- Почему так жарко в комнате, Сергей Маркович, или это я так горю?
Данилов кивнул на печь, что стояла в углу комнаты:
- Я собрал немного дров, печь топится...
- Вы?.. Вы... вы... Сергей Маркович...
- Успокойтесь, Гюльназ... вам нельзя волноваться... Я еще приготовил вам кофе... Сейчас... - Он встал и принес полную чашку, стоявшую на табурете у печки. - Мы теперь вместе поужинаем... И так вкусно... У нас все есть... Он пододвинул продукты, давеча отложенные в сторонку. - А стол мы накроем вот тут, у тебя на коленях. Ты будешь есть прямо здесь, хорошо? Держи голову, я немного подниму подушку. Вот так...
Гюльназ показалось, что она вот-вот снова потеряет сознание. Чудодейственные слова Данилова сильной волной подхватили ее и хотят швырнуть куда-то в бездну. Если бы Данилов в тот же миг не поднес к ее губам чашку, которую держал в своей большой, ласковой руке, эта сильная волна могла бы захлестнуть ее, унести. Другой рукой - такой же большой и ласковой - он протянул ей кусок хлеба. На ломте хлеба лежал кусочек, совсем крохотный кусочек колбасы. Гюльназ взглянула на этот ломтик хлеба, на эту колбасу, и неведомое чувство так обрушилось на нее, что она чуть было снова не лишилась сознания. Но было поздно. Данилов принялся кормить ее. Его рука была похожа на клюв ласточки, кормившей своего неоперившегося птенца. Гюльназ не успевала проглотить один кусок, как эта самая рука, точно клюв, приближалась к ней.
Данилов рассказывал о своей работе, о положении на фронте, об открывшейся на Ладожском озере Дороге жизни. Он только не заговаривал об Искендере, это еще предстояло. К тому же ждал, чтобы она сама заговорила первой. Он все еще носил с собой "Ленинградскую правду".
Она не хватала, не проглатывала кусок, как это свойственно всем долго голодающим людям, а ела спокойно и не спеша. Данилов также спокойно глядел на ее бескровные губы, трогательный детский подбородок, длинную, все еще хранившую свежесть шею.
- Сергей Маркович, а вы? - Широко распахнув ресницы, Гюльназ с нежной улыбкой посмотрела на него. Это была первая улыбка, которую увидел сегодня Данилов на ее лице, и, значит, первый отклик на его старания.
- Вы обо мне не беспокойтесь, Гюльназ-ханум, - проговорил он ласково. Сначала я покормлю вас, а потом...
- Мне кажется, что я и сама уже смогу есть.
- Правда? Вот и отлично. Это ваша сегодняшняя порция. Не обижайтесь, но пока...
- Этого много, Сергей Маркович... Да мне и нельзя много есть.
- Знаю, потому и выделил норму...
- Я вас понимаю, Сергей Маркович... Вы... вы... такой...
- Молчать!.. Вам нельзя много разговаривать!
С этими словами Данилов легонько прикрыл ей рот своей рукой. Гюльназ, радуясь этому неожиданному прикосновению, покрыла эту большую ласковую руку поцелуями. Это так тронуло Данилова, что он вдруг осознал, какой для него Гюльназ родной человек, в эти минуты она сделалась ему еще ближе и роднее, а этот поцелуй признательности и вовсе растрогал его сердце.
И, желая скрыть от Гюльназ переполнившие его сердце радость и счастье, он произнес:
- Кажется, еще есть чашка кофе. - И встал. - Не выпить ли его вам?
- Нет, довольно. Сергей Маркович, выпейте этот кофе сами.
- Я больше люблю чай. А кофе - это вам... Может, Гюльназ-ханум, вы тоже хотите чаю?
Как бы стесняясь дать согласие, Гюльназ посмотрела на него, в ее взгляде была такая благодарность и признательность, которые трудно было выразить словами. Они будто говорили ему: "Милый Сергей Маркович, вы когда-то нарекли эту комнату "любовным объектом", теперь вернули ей дыхание жизни. Разве вы это не чувствуете? Об этом свидетельствует даже дымящаяся чашка у вас в руках. Стены этой ледяной комнаты оттаяли от вашего дыхания, вашего смеха, ваших слов, вашего взгляда". Об этом сейчас думала Гюльназ, а это означало, что она разорвала свой саван. Она уже чувствовала себя совсем здоровой, хоть и была слаба физически, но духом - абсолютно здорова. Теперь он может уйти, оставив Гюльназ совершенно спокойно.
Времени у него действительно было в обрез.
Данилов непроизвольно взглянул на часы. Услышав дрожащий голос Гюльназ, раскаялся.
- Сергей Маркович, вы торопитесь? Ведь вы ничего не сказали об Искендере. Вы ни разу не видели его там, на фронте?
Данилов понял: Гюльназ ничего не знает.
- Нет, не видел... - Чтобы освоиться в новой ситуации, он, как бы растягивая время, медленно заговорил: - А вы не знаете, куда он получил назначение?
- Нет, я ничего не знаю, ничего!.. Он забежал ко мне в госпиталь, сказал, что, может быть, вечером еще попадет домой, с того дня он не написал ни строчки.
Данилов растерялся вконец. Что делать? На что решиться, что будет правильным сейчас в ее положении - сказать правду или умолчать?
- Разве может быть на фронте такое, чтобы нельзя было написать письмо?
Данилов еще не пришел к окончательному решению, но на каждый ее вопрос он должен был отвечать. Причем эти ответы в какой-то мере должны были быть правдоподобными.
- Конечно, такое случается, Гюльназ-ханум, особенно здесь, на нашем Ленинградском фронте, что угодно может произойти.
Смысл последних слов он осознал только после того, как они были произнесены. Но Гюльназ то ли не услыхала этих слов, то ли до нее не дошел их второй, страшный смысл.
- Искендер дал мне слово, что по крайней мере дважды в неделю будет навещать меня. Говорил, что будет тут рядом... на пулковском направлении.
Данилов помолчал, затем, улыбнувшись, произнес:
- Вот видите, Гюльназ-ханум, Пулково и Ладога - это же разные направления. Конечно, я не мог встретить Искендера. Разные участки фронта.
Гюльназ улыбнулась чуть виновато, будто просила у своего спасителя прощение. Наступившее молчание еще раз напомнило Данилову, что пора уходить. Но надо было сделать как-то так, чтобы Гюльназ не обиделась.
- Вы долго пробудете в городе, Сергей Маркович? - Гюльназ внезапно отвлекла его от его беспокойных мыслей.
- Нет, всего один день... Завтра покончу с делами, а вечером отправлюсь в путь.
- Куда?
- Известно куда - на фронт.
- Вас часто командируют в город?
- Это второй раз... нет, прошу прощенья... третий...
- Ага, вон как... - Гюльназ проговорила так по-свойски, с такой искренностью, что Данилов восхитился чистотой этих слов, их непритворностью и в то же время вспомнил, что, когда прошлый раз он приходил сюда, она не оставила ему записки в замочной скважине.