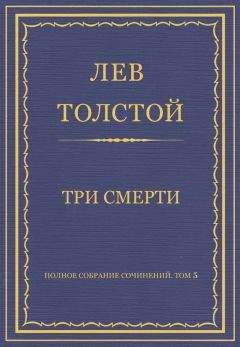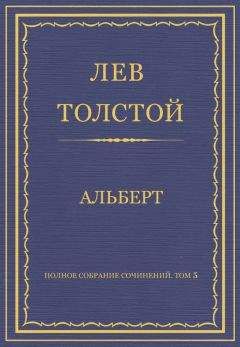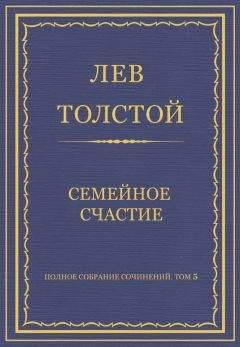Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856–1859
— Как хорошо! — проговорил он, присаживаясь на перила и рукой проводя по моим мокрым волосам.
Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня, мне захотелось плакать.
— И чего еще нужно человеку? — сказал он. — Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно, совершенно счастлив!
«Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье, — подумала я. — Как ни велико оно было, ты говорил, что всё еще и еще чего-то хотелось тебе. А теперь ты спокоен и доволен, когда у меня в душе как будто невысказанное раскаяние и невыплаканные слезы».
— И мне хорошо, — сказала я, — но грустно именно оттого, что всё так хорошо передо мной. Во мне так несвязно, неполно, всё хочется чего-то; а тут так прекрасно и спокойно. Неужели и у тебя не примешивается какая-то тоска к наслаждению природой, как будто хочется чего-то невозможного, и жаль чего-то прошедшего.
Он принял руку с моей головы и помолчал немного.
— Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, — сказал он, как будто припоминая. — И я тоже ночи просиживал, желая и надеясь, и хорошие ночи!.. Но тогда всё было впереди, а теперь всё сзади; теперь с меня довольно того, что есть, и мне славно, — заключил он так уверенно небрежно, что, как мне ни больно было слышать это, мне поверилось, что он говорит правду.
— И ничего тебе не хочется? — спросила я.
— Ничего невозможного, — отвечал он, угадывая мое чувство. — Ты вот мочишь голову, — прибавил он, как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам, — ты завидуешь и листьям, и траве за то, что их мочит дождик, тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на всё на свете, что̀ хорошо, молодо и счастливо.
— И не жаль тебе ничего прошлого? — продолжала я спрашивать, чувствуя, что всё тяжелее и тяжелее становится у меня на сердце.
Он задумался и опять замолчал. Я видела, что он хотел ответить совершенно искренно.
— Нет! — отвечал он коротко.
— Неправда! неправда! — заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. — Ты не жалеешь прошлого?
— Нет! — повторил он еще раз, — я благодарен за него, но не жалею прошлого.
— Но разве ты не желал бы воротить его? — сказала я.
Он отвернулся и стал смотреть в сад.
— Не желаю, как не желаю того, чтоб у меня выросли крылья, — сказал он. — Нельзя!
— И не поправляешь ты прошедшего? не упрекаешь себя или меня?
— Никогда! Всё было к лучшему!
— Послушай! — сказала я, дотрогиваясь до его руки, чтоб он оглянулся на меня. — Послушай, отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел, зачем ты давал мне волю, которою я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, — сказала я голосом, в котором сильней и сильней выражалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь.
— Чего бы не было? — сказал он удивленно, оборачиваясь ко мне: — и так ничего нет. Всё хорошо. Очень хорошо, — прибавил он, улыбаясь.
«Неужели он не понимает, или, еще хуже, не хочет понимать?» — подумала я, и слезы выступили мне на глаза.
— Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, — вдруг высказалась я. — Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня всё, что мне было дорого.
— Что ты, душа моя! — сказал он, как бы не понимая того, что я говорила.
— Нет, дай мне договорить… Ты отнял от меня свое доверие, любовь, уважение даже; потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать всё, что давно мучит меня, — опять перебила я его. — Разве я виновата в том, что не знала жизни, а ты меня оставил одну отыскивать… Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я, скоро год, бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу, и всё так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а что я и виновата, и несчастна! Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое и твое несчастье.
— Да чем же я показал тебе это? — с искренним испугом и удивлением спросил он.
— Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь, и что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? — продолжала я. — Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего, нежного слова со мной. И потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.
— Постой, постой, — сказал он строго и холодно, — это нехорошо, что̀ ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не…
— Что я не люблю тебя? говори! говори! — досказала я, и слезы полились у меня из глаз. Я села на скамейку и закрыла платком лицо.
«Вот как он понял меня!» думала я, стараясь удерживать рыдания, давившие меня. «Кончена, кончена наша прежняя любовь», говорил какой-то голос в моем сердце. Он не подошел ко мне, не утешил меня. Он был оскорблен тем, что я сказала. Голос его был спокоен и сух.
— Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, — начал он, — ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде…
— Любил! — проговорила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились на него.
— То в этом виновато время и мы сами. В каждой поре есть своя любовь… — Он помолчал. — И сказать тебе всю правду? ежели уже ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь, и любовь эта росла и росла в моем сердце, так точно и в Петербурге, и за границей, я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня, успокоился и всё-таки люблю, но другою любовью.
— Да, ты называешь это любовью, а это мука, — проговорила я. — Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него?
— Не свет, мой друг, — сказал он.
— Зачем не употребил ты свою власть, — продолжала я, — не связал, не убил меня? Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье, мне бы хорошо, не стыдно было.
Я опять зарыдала и закрыла лицо.
В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу; но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли.
Мы долго молчали, когда они ушли; я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотив голову на руки, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но только тяжело вздохнул и опять облокотился.
Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня.
— Да, — заговорил он, как будто продолжая свои мысли. — Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы вернуться к самой жизни; а другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время.
— Зачем же ты проживал со мною и давал мне проживать этот вздор, ежели ты любишь меня? — сказала я.
— Затем, что ты и хотела бы, но не могла бы поверить мне; ты сама должна была узнать, и узнала.
— Ты рассуждал, ты рассуждал много, — сказала я. — Ты мало любил.
Мы опять помолчали.
— Это жестоко, что ты сейчас сказала, но это правда, — проговорил он, вдруг приподнимаясь и начиная ходить по террасе, — да, это правда. Я виноват был! — прибавил он, останавливаясь против меня. — Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя, или любить проще, да.
— Забудем всё, — сказала я робко.
— Нет, что прошло, то уж не воротится, никогда не воротишь, — и голос его смягчился, когда он говорил это.
— Всё вернулось уже, — сказала я, на плечо кладя ему руку.
Он отвел мою руку и пожал ее.
— Нет, я не правду говорил, что не жалею прошлого; нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? не знаю. Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность: но…
— Не говори так… — перебила я. — Опять пусть будет всё, как прежде… Ведь может быть? да? — спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и не глубоко смотрели в мои.
В то время как я говорила, я чувствовала уже, что невозможно то, чего я желала и о чем просила его. Он улыбнулся спокойною, кроткою, как мне показалось, старческою улыбкой.
— Как еще ты молода, а как я стар, — сказал он. — Во мне уже нет того, чего ты ищешь; зачем обманывать себя? — прибавил он, продолжая так же улыбаться.