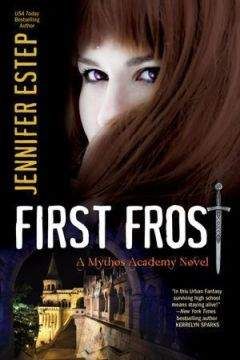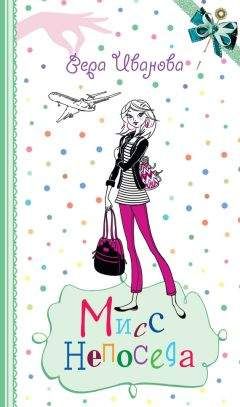Борис Поплавский - Домой с небес
Второй день Орфея в аду был все-таки легче. Во-первых, Олег работал в подвале, далеко от хозяйского глаза, там разговорился он с упаковщицей, смиренной, замученной дамой в очках, которая прежде верила, ходила в церковь, а теперь некогда ни о чем подумать, а воскресенье — спишь или стираешь целый день, только что в синема — в субботу вечером. «А сколько времени вы здесь работаете?» — «Да уж год почти». — «И вам еще не надоело?» — «Нет, привыкаешь как-то, и жизнь в вечной спешке летит, как сон…» Снова Олег подумал о словах Фрейда, что все живое ищет смерти, не могучи выдержать мучения своего богатства, ищет израсходовать себя то ли в совокуплении, то ли в работе, то ли в пьянстве, и он с упреком отвернулся от ее смирения, как от давнишнего зрелища молодого человека, онанирующего в коридоре метро. Но ведь она умерла бы с голоду… Я же не умер с голоду… Женщине труднее нищенствовать… Мужчине — позорнее… Работать, забыть, забыться, смириться, освободиться от долга, быть… Как кровь из вен, как кастрация, отженили, отчуждили часть жизни, живем на остаток, а сколько остатка — синема да спанье до обеда, спать в воскресенье утром… И вам не стыдно?.. Нищенствуйте, спите на улице, боритесь за дух… Сидите в тюрьме, в монастыре, на шомаже… Нет, избавьте… нам бы наработаться, наупотребляться, избыть, излить жизнь, и с глаз долой… Туда и дорога… так и надо, bande de chatres…[43] Ax, расстрелял бы все смирившееся, святость для бедных… Туда и дорога… Олег весь день штемпелевал, прессовал румяна, «делал компакты», как это по-деловому, отвратительно-смиренно сказала парфюмерная богородица, наполнял, утрамбовывал ладошкой формочки, артистическим жестом, скоро постигнутым, налету раскручивал и закручивал стальной пресс. Работа шла в каком-то исступлении, обалдении, ошалении беспрерывного и однообразного танца — так, понял Олег, скорее проходит время в дурмане ритмической спешки, поглощающей дух, — отдыхал в клозете-раздевалке, куда ходил прятать в пиджак краденые пахучие богатства для Тани: пудру, крем для лица, брильянтин, бракованные карандаши для губ — все то, что из горького озорства и классовой ненависти он с бьющимся сердцем проносил мимо спящего на диване у открытой двери лысого химического гения… День прошел в одуряющей спешке, но едва он очутился на улице с шестьюдесятью франками в кармане, которые не без труда получил, потому что, даже собираясь все-таки заплатить, патрон как-то странно нервически медлил, жалея, борясь с собою и как бы с физической болью расставаясь с карбованцами. День этот, хотя и без физических и моральных страданий, особенно без унизительной необходимости время от времени сказать что-нибудь, чтобы поддержать свое достоинство, прошел до того незаметно, как будто выпал из жизни, как сон. Сил же почти не оставалось, и снова Олег, едучи, заснул, мотая небритой головою, заснул, накапливая на завтра весь запас рассказов о рабочих подвигах и муках, дабы доказать теперь, с деньгами в руках, до чего он принимает Таню всерьез.
Третий же день прошел в белом тумане до тошноты надушенной пудры. Этот день Олег с утра прокрутил барабан для протирания пудры в белой закуте, освещенной яркой электрической лампой. Пудра белыми облачками вылетала из щелей мельницы и повисала в воздухе сладкой, приторной пеленою, налипая решительно на все: на волосы, губы, ресницы. Крутя барабан, Олег приловчился даже немного читать Франца Баадера одною рукой и одним глазом, но это было очень опасно и замедляло время, разбивая ритмическую инертность трудом, а к вечеру, украв снова горсть губных карандашей, измученный непривычной работой и белый, как клоун, оказался на улице. Ветер быстро розовым заревом сходил на Монмартрский холм… По временам изумительным хрустальным звуком бухал колокол. Люди спешили и, перешучиваясь, покупали вечерние газеты. Многие сходили к центру города, где уже два дня происходили манифестации и свалки по поводу грандиозного финансового скандала… Олег налегке, со звенящей легкостью переутомления, обернувшегося неестественным нервным возбуждением, шел, ощупывая в кармане широкие двадцатифранковые монеты. Ему все хотелось покупать, заходить в лавки или в питейные заведения. Он был богат и как-то измученно-нервически, христиански весел и добр от усталости…
Медленно среди весенних огней неба и земли Олег спускался с Монмартра, останавливаясь перед витринами, сочувствуя обрызганному грузовиком велосипедисту, который тоже измученно, но странно весело, счастливо ругался, останавливался слушать пьяные споры субботних рабочих за стойкой.
Какое все-таки счастье иметь деньги… Вот войду и съем все эти пирожные… Небо еще не погасло, а улица уже горит… Куда они спешат… Спешат целоваться… спать, ругаться, в синема, жить… Сегодня мне хорошо с ними, все так ярко бьет в глаза, хотя это и не к добру, и вдруг, боюсь, сделается страшный припадок слабости, сонливости, тоски… Если так будет продолжаться, я смогу купить себе радио… Радио, какое чудесное изобретение, сидишь и крутишь, и сразу ты во всех концах мира… Зарывшись в кресло, с Таней на коленях слушать джаз или Шумана, потом останавливать радио и ночью в хаосе ателье (обязательно снимем ателье) в ярком круге низко опущенной лампы работать, читать, писать, писать, какое счастье… А там, за кругом света, в полумраке на диване, тяжелое, золотое, сияющее тело Тани… Да! Всю ночь бы палили свет, спорили бы, ссорились и целовались посреди спящего мира, как два царя. Ах да!.. Пойду посмотрю, может быть, сегодня опять будут драться на улицах… Но осторожнее, как бы не выслали…
Ладно, с моей-то боксерской рожей и фуражкой на глазах… Пойду посмотрюсь в зеркало… Мм-да… Круги под глазами, черная фуфайка без рубашки, отчаянный и смущенный вид, и как это я нравлюсь женщинам, истинный шахтер, сутенер, матрос…
Ага… а вот и полиция… Какие все-таки красивые ребята, прямо расцеловать бы в алые щеки, и с достоинством… Ага!.. по середине мостовой, как в Москве в февральские дни, а я с красной лентой на загнутой фуражке реалиста все мечтал попасть в милицию — и не пустили… Вся моя жизнь — это вечное не пустили, то родители, то большевики, а теперь эти эмигрантские безграмотные дегенераты…
Рыхлый снег под ногами, февральская каша и прощай занятия… Как все-таки было хорошо, здорово бежать, бросать все, удирать на телеге по украинским дорогам, и где я тогда был… Развейся в пространство, развейся, квартира, квартира моя…
Тюрьма проклятая, сумрачная, бесконечная, закрытая белыми чехлами… Одни уроки музыки вспомнить… и подоконники… В Ростове среди вшивых раненых только что открыл Ницше… На Дону в лодке между небом и землей, не могучи, не умеючи еще читать… каждая фраза как выстрел в упор, тысяча мыслей, и нет сил продолжать, лучше грести, плавать, ходить целыми днями грязными ногами по луне… А рассветы, утра в ослепительной свежести осени… спал в библиотеке, просыпаясь, с изумлением нюхал сладкий книжный запах, розовые отблески на переплетах, и не было сил читать… и все это посреди обязательных постановлений… Военная музыка на бульваре… просят сохранять спокойствие, городу ничего не грозит… значит, еще одна эвакуация, и это все где-то во сне, в скучном неуклюжем бреду, а наяву — Ницше, Шопенгауэр и пьяный от света и своей обреченности узкоплечий сверхчеловек в хрустальных горах Вильс-Марии. Но осторожнее, теперь ты в самой гуще… Делай независимый, веселый, отсутствующий вид… Не мое, мол, дело, фуражку на ухо, и чего они орут, счастье свое, грубое, земное, золотое, бычье, защищать… Vive Chiappe!..[44] Осторожнее, не зарывайся, да теперь и не выберешься…
Поорать бы самому… Да! Но что именно… Кьяпп, кстати, симпатичный малый, и не мучал нашего брата… Да! mais tu n'y es pas,[45] это не идеология… Сади его, мать, ни вперед, ни назад… А, побежали!.. Ну, теперь надо смываться, брысь отсюда… Ах, черт… (В боковой улице, стараясь отдышаться…) Как все-таки ему попало… Сразу ослеп от крови, и только палкой… Податься, что ли, опять вперед… Да устал я, и все-таки видят, что я иностранец… Устал все-таки дико.
По временам рев толпы становился подавляющим, тогда Олег наэлектризовывался, кричал что-то и, даже, не помня себя, защищал кого-то (городового, сорванного толпой с велосипеда), без вина охмелев на чужом пиру посреди вулканов, океанов, гейзеров горячей крови роскошью пьяной вежливости, играющей на возбужденных лицах… Eh bien… faut plusieurs fortes poignees n'ayant rien vole… Puis mettre tous les etrangers a la porte et travailler le main dans la main… Pas vrai, mon pote?.. Rapport au proletariat…[46] и т. д., и т. д. То волнуясь, то дрейфя, Олег бежал вперед и назад, как щепка, носимый толпой, скакал через клумбы и через парапеты, путаясь в кустарнике Champs Elysees,[47] и вдруг оказался снова лицом к лицу с ночью, в пустоте боковой улицы, в презрительном молчании медленно наступающей весны.
Вот она, наконец, усталость, настоящая, внезапная, нестерпимая, и как мне выбраться из смятения этих чужих людей; еще мгновение — и я совсем перестану притворяться и, кажется, закричу по-русски… Ходят и орут… Революция в глаженых брюках, не с голоду, нет, а за избыток, приварок, достаток, не за хлеб, а за масло, за радость свою языческую, за автомобили у моря, загорелую кожу в белом платье, за радио в зимний вечер. Не только за жизнь, но и за счастье, за античное величие неравной оценки, за превосходство, неравенство, недоступность, снобизм, а ты, апокалипсическая вошь, прочь отсюдова… Нет до всего этого тебе никакого касания… Ходят и возмущаются, чувствительны к убыткам и непорядку, как радиоантенны, а тебе было все равно, и родителям все равно… Пускай кухарка поцарствует… Развейся в пространство, исчезни, квартира, квартира моя… С их точки зрения, надо было бы: здравствуйте, ваше благородие, вон Добролюбов улицу переходит, дайте ему по шее, дайте покрепче, не опоздайте дать… Стыдились полиции, стыдились денег, семьи, стыдились жить и защищаться… Получается, что были христианами… Слабые железы или христианство… или само христианство — род расслабления гениталий… Царство Мое не от мира сего… Но почему все-таки не защищать?.. Пятьдесят тысяч офицеров в Москве в октябрьские дни, все по квартирам, а шестьсот юнкеров на улице… Боялись?.. Нет, не боялись же на фронтах… Ах, чего там за квартиры ратовать… так и просрали по чистоте души.