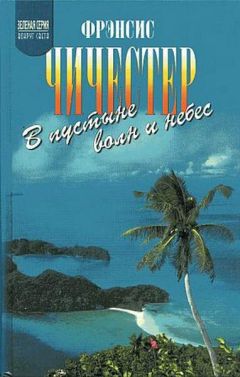Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Пробыв четыре дня в Берлине (в середине июля 1923 года), Лунц уехал в Гамбург, а через месяц слег, сначала в санатории, а потом в клинике. В сентябре прошлого года положение его представилось безнадежным. Затем ему стало легче. Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении. В декабре он писал, что скоро вышлет свою последнюю пьесу, которую до сих пор хранил под подушкой, никому не показывая. Но пьесу не выслал. За последние месяцы я почти ничего уже не знала о нем. 9 мая он скончался. Похоронили его в Гамбурге... Он вырос в революцию, в тяжелые годы лишений и душевного огрубения, когда ежедневно перед молодыми писателями вставали соблазны, но он до конца оставался скромен, прям и бодр. Он готовился к жизни трудной, суровой и горячей, но от всего этого осталось несколько десятков исписанных листов бумаги да память о нем в сердцах тех, что знали его и утешались им в безутешные годы".
Аким Львович Волынский, спавший в те зимы не только в шубе и шапке, но и в калошах, находил, что в Иде есть что-то итальянское, и он был прав. Ее черные волосы локонами спадали на лоб, ленивые движения, красивые маленькие руки, какая-то во всем тожная лень, медлительность улыбки; тяжелое тело, изнеженное, несмотря на лишения, картавость - ей следовало бы носить парчу и запястья, а она ходила (как все мы) в пальто из портьеры, в платье из маминого капота, в кофточке из скатерти.
Сегодня обещал прийти Радлов, - картавила она, таинственно сверкая глазами, - на будущей неделе придут актеры из Александринки. Я ездила к Бенуа и пригласила его... - Она была хозяйкой понедельников, и ту часть жизни, которая оставалась свободной от "г'оманов" (не тех, что читают, а тех, что переживают), отдавала собраниям и стихам.
Мне запомнился вечер в понедельник 21 ноября. Из Зубовского я пришла в Дом Искусств, в класс К.И.Чуковского, и там, как и все, читала "по кругу" стихи. И Корней Иванович вдруг похвалил меня. "Да, - сказал он, пристально глядя на меня и словно меря меня, внутри и снаружи, - вы написали хорошие стихи..." И Коля Чуковский сиял от удовольствия толстым лицом, радуясь за меня.
Потом мы с ним вместе пошли с Мойки к Литейному и пришли к Иде довольно рано. Опять расставляли табуреты, пепельницы, дули в печку.
- Я пригласила Анну Андреевну, - говорила Ида (а "настоящая мама" в это время готовила бутерброды с чайной колбасой мне и Коле). - И я встретила Ходасевича. Он тоже обещал прийти.
Эта фамилия мне ничего не сказала, или очень мало.
Поздно ночью, когда мы шли домой (Чуковский жил на Спасской, и нам было по пути), он говорил мне, весело размахивая руками:
- Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за вас! Папа похвалил сначала, а теперь - Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день! (Ида шепнула мне, когда я уходила: Сегодня твой день!)
Там, сидя на полу, я "по кругу" читала:
Тазы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну,
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.
И буду девочкой веселой
Ходить с заложенной косой,
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой...
И так далее. Так что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр "Анно Домини"), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали "Фелициановичем", объявил, что насчет ведра и швабры - простите! метлы! - ему понравилось.
Ну а если бы и нет? - подумала я. - Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего бы не изменилось, все равно!
У Ходасевича были длинные волосы, прямые, черные, подстриженные в скобку, и он сам читал "Лиду", "Вакха", "Элегию" в тот вечер. Про "Элегию" он сказал, что она еще не совсем кончена. "Элегия" поразила меня. Я достала его книги, "Путем зерна" и "Счастливый домик". 23 декабря он опять был у Иды и читал "Балладу". Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.
Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к "гиперборейцам" (Гумилеву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. В членах Цеха, в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то общее: их несовременность, их манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья и даже их особое русское произношение: красивий вместо красивай, чецверг вместо читверк; грим "светских молодых людей" (а "света"-то больше и не было!), что-то "классовое", что казалось иногда забавным, иногда довольно приятным, а порой и печальным анахронизмом и всегда носило печать искусственности. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем - и, может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, "наше время" имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, нэп как уступка революции - мещанству; в литературе - конец символизма, напор футуризма, через футуризм - напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней.
В студии Лозинского мы учились поэтическому переводу. Выбран был сонет Хозе Мария Эредиа о путешествии волхвов в Вифлеем - первая строчка трудностей не представляла (она же была и последней):
Волхвы Гаспар, Мельхиор и Вальтасар,
но дальше появились трудности, которые в подробностях обсуждались сначала предлагались слова, потом комбинации слов, отвергались десятки возможностей, принималась единственно совершенная, и за час мы успевали продумать или "проработать" не более двух-трех строк. Оттуда - на Галерную. "Тени сизые смесились" и Томашевский, ведущий анализ, тот, что тогда был еще такой новостью и который сейчас в западном мире считается основой всякой поэтики. Тень Щербы витала над нами, и в меня сыпалась словесная премудрость. Выхожу на заснеженную улицу. Тихо под аркой, тихо на площади, Петербург - в пророчествах Гоголя и Достоевского (и Блока), как стиснутый льдинами корабль под вьюгой. Где кончается тротуар, где начинается мостовая - неизвестно. Бегу в мягких валенках, падаю, встаю. На углу Конногвардейского бульвара - памятник Володарскому. Он из гипса, под него в прошлом году подложили бомбу и вырвали ему живот, починить нечем, оставить так - неуважительно, снять - распоряжения ждут, а пока закрыли его рваной тряпкой, которая под метелью, на ветру, хлещет в разные стороны, машет, грозит, зовет и кланяется. Мимо памятника и с угла Конногвардейского прямо наискось, через площадь, к углу Морской, к Астории, падая, проваливаясь в снег. Ни огня, ни звука, только воет вьюга да плывут в серо-белом уже ночном зимнем сумраке смутные фигуры пешеходов (не то: "Впереди Исус Христос", не то: "А шинель-то моя!"), пропадают, пригибаясь от ветра, опять выныривают и скользят мимо меня.
- Осторожно! Тут скользко!
Это кто-то кричит мне подле самой Астории с противоположного угла, и из метели появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча).
- Я вас тут поджидаю, замерз, - говорит Ходасевич. - Пойдемте погреться. Не страшно бегать в такой темноте?
Он знал, что в Зубовском лекции кончаются в восемь, и стоял на углу, поджидая, когда я пройду. Пока мы стоим и рассматриваем друг друга, он говорит:
- Шуба у меня Мишина, потому такая длинная, это мой брат, московский адвокат, а френч - из Мишиного перелицованного фрака. И мне тепло. А вам?
Я шагаю с ним рядом. Он ходит легко, он выше меня, он худ и легок, и, несмотря на "Мишины" одежды, в нем сквозит изящество.
Пока мы пьем кофе в низке, он расспрашивает меня: живете с папой-мамой? учитесь? а папа-мама какие? влюблены в кого-нибудь? стихи новые написали? еще что-нибудь было про швабру? На некоторые вопросы я не отвечаю, на другие отвечаю подробно: папа-мама, конечно, здорово мешают жить, когда человеку двадцать лет, но в общем, если сказать правду, я их воспитала так, что они съехали на тормозах со своих позиций. Мне ж, окромя цепей, терять нечего.
- Ишь ты! Конечно, когда барышне двадцать лет...
- Я сказала: когда человеку двадцать лет.
- Ах, я ослышался!..
Я твердо говорю "нет", когда он предлагает проводить меня домой в эту вьюгу, и он не настаивает. Мы оба снимаем варежки и прощаемся у входа в Дом Искусств. Рука его узкая и сухая. Он входит в дверь, и в свете желтой лампочки, через полузанесенное снегом стекло входной двери, я вижу, как он поднимается по лестнице: шапка, шуба. Неспешно поворачивает и исчезает, прямой, с высоко поднятой головой. Силуэт его остается в моей памяти.
Позже он писал о своей жизни в Доме Искусств:
"Помещался "Диск" в том темно-красном доме у Полицейского (в старину Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины восемнадцатого столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум - свергать Петра Третьего. Дом этот - огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался "Английский магазин", а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, названия которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны (на бумаге этого банка Ходасевич писал стихи, а Лунц - письма мне, когдa мы были уже в Берлине).