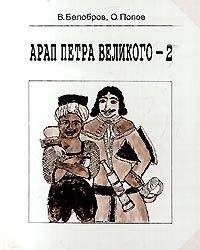Александр Пушкин - Старые годы
— Ну добро, полно, Федорович, уж обещано, сказал я, что для Ольги сделаю все на свете, буду учиться с утра до ночи; знаю, что трудно…
— Где труд, там и польза! Его величество, — тут секретарь снова снял шляпу, — не только умом и духом, да и руками тяжко работал, более всякого раба своего. «Трудиться надлежит, — говорил он Ивану Ивановичу Неплюеву. — Я и царь ваш, а у меня на руках мозоли; все это для того, чтобы показать пример другим».
— Сказано, сказано! Буду трудиться, лишь бы Ольга любила меня, лишь бы я мог быть полезен родине, которую люблю, как Ольгу. За них, клянусь тебе, я готов положить живот. Потому-то и смущает меня все иноземное, ваши наряды, да вычуры, да ваши…
— Э! Дитя! Дитя глупенькое, прости мне слово! Да разве любить родину нельзя в длиннополом кафтане, без бороды, в парике? Разве Шереметев, Меншиков, Апраксин не лили за нее кровь, не били наголову тех, от которых переняли наряд свой, от которых научились многому и хорошему?
— Но коли все равно, так зачем же покидать житье наше старое и кафтан и бороду?
— Конечно, не нужно бы было для многих, а для многих зело потребно! Сказал бы тебе!.. Да… видишь… молод ты больно: борода и чекмень твой, Ермолай Андреянович, словно кляпыш, к которому ты пристегнут, как лихой кречет, крепко-накрепко; спусти с него птицу — полетит в поднебесье, подымется до солнца и взглянет на него, и увидит сверху, чего и не видала, сидя на кляпыше, и не устоит против его груди никакая пернатая, что, бывало, нахально ругалась, кружась над его головою. Имеяй уши слышати, да слышит. Вот до времени, а там собственною рефлекцией поймешь более!
— Понимаю речи твои; готов на все. Желаю, хочу учиться, хочу, чтоб был во мне прок и польза, а бороды, кафтана не сниму! Ей же богу не будет этого!
— Не говори, голова, будет!
— Ни! Вовеки!
— Будет, говорю я, и скоро!
— Э! Да что спорить! — отвечал Ермолай с сердцем. — Не сделаю этой глупости.
— Вот так-то? Мудрецы вы, мудрецы! Не тот глуп, Ермолаюшка, кому случится на веку сделать глупость, а глуп тот, кому глупость людская не придает ума.
Между тем они перешли за Мойку. Путь по улице, еще не застроенной и малообитаемой, был скучен по причине грязи; но тут стечение народа, возов с овощами, горшками, деревянною посудою и другими домашними потребностями, торопившихся к близлежащему рынку и опережавших друг друга, делали дорогу совершенно непроходимою. Пешеходы ежеминутно подвергались опасности быть опрокинутыми в тесноте. Монахи нового Александро-Невского монастыря, сопровождавшие архимандрита своего Феодосия Яновского, ехавшего в тяжелом рыдване, верхом на тощих лошаденках, подобрав на седла рясы, с криком пробивались сквозь серую толпу, почтительно снимавшую шапки, и вымещали без разбора на спинах, носивших кафтаны и армяки, неудовольствие свое ударами тяжелых нагаек. Это еще увеличивало беспорядок, крик и толкотню. Словом, у въезда на большой луг к Адмиралтейству народ так теснился, что два наши путешественника, замученные трудным переходом и решительно не имевшие возможности пробиться далее, решились остановиться для отдыха.
Это место было довольно безобразно. На нем возвышалось несколько изб. Странно, ибо пункт составлял средину двух заселенных и хорошо обстроенных частей Адмиралтейского острова, который со дня на день украшался, в то время как первенец его, Петербургский остров, если не пустел, то приобретал мало новых жителей. Вправо отсюда лежал путь мимо Адмиралтейской крепости к домам государевым: Зимнему и Летнему, к иноверческим киркам, рынку и барским палатам, а далее, за Фонтанной рекою к бывшей Русской слободе (Литейной части), многолюдной и хорошо обстроенной [57]. Влево были расположены между Невою и Мьею слободы: Адмиралтейская и Немецкая с чистыми домами, ниже, между Мьею и ручьем, обратившимся впоследствии в канал, и даже по левому берегу Фонтанной речки, были разбросаны летние барские домы; наконец, прямо находились: Адмиралтейство, невский берег и перевоз на Васильевский и Петербургский острова.
Изобразив подробно положение пункта, на котором движение народа остановило двух наших пешеходов, мы спрашиваем читателя: почему на том прекрасном месте не выстроили дворца или барских палат, а поставили простые избы? Потому, что промышленная сметливость в 1723 году была нисколько не глупее нынешней: она привела в известность все разряды жителей различных частей города, сообразила их взаимные отношения, исчислила пути, соединявшие слободы, помножила все эти данные летними жарами, осеннею сыростью, зимними морозами; приложила к произведению жажду, сродную каждому здоровому русскому или немецкому человеку, и результат показал ей ясно, что тут именно, а не в другом каком-либо месте, надлежало выстроить кабаки. Сообразительность нашего века вследствие подобной, но еще аккуратнейшей выкладки, поставила здесь трактиры, домы для приезжающих и магазины.
Под широким навесом одного, и самого обширного из кабаков пешеходы наши сели на деревянную скамью, приставленную к резным перилам, коими загорожены были промежутки четырех столбов с нарезками, похожих на столбики птичьих клеток и составлявших портик храма. Над низкою дверью избы, на стороне, обращенной к Адмиралтейству, висела черная доска, на которой красовался тощий двуглавый орел в железном круге. Он был намалеван столь отчетисто, что каждый посетитель мог сосчитать без труда все перья его крыльев, которыми он осенял белую на черной доске надпись: «Казенной питийнай вольнай дом».
Буквы надписи, казалось, только что вышли из дому, ими украшенного: они цеплялись в заманчивом беспорядке и, со своенравною дружбой обнимая одна другую позволяли зрителям предвкушать то блаженное положение, в котором многие из них долженствовали быть по выходе из сего храма радости.
Здесь был совершенный хаос: несмотря на ранний час дня двери ломились от посетителей. Довольно просторный дом Гурьяныча, отставного Преображенского унтер-офицера, вошедшего в права содержателя питейной избы за усердную службу по отобрании прав сих от жидов, которые сделали себе из оного монополию, кабак Гурьяныча, говорим мы без метафор, внутри был забит, а снаружи облеплен народом.
Купчины, адмиралтейские служители, люди в армяках, немецких платьях, длиннополых кафтанах, без бород и с бородами, чухны, плотники, денщики, бабы-стряпухи, со всех сторон проходившие мимо этого места для закупки на рынке жизненных припасов; все заходило или забегало в славную вольную избу, одни за тем, чтоб потолковать, другие, чтоб послушать, и все почти затем, чтоб продраться до обетованного поставца, где израненный герой Нейшанца и Полтавы Гурьяныч за медную деньгу наливал прихожанам большую чару зеленой амврозии, порой подслащивая приятную горечь вина ласковым словцом, рассказом о любопытной старине или о важной новости, порой воздерживая огромным кулаком своим рьяное нетерпение горячих обожателей благодатного напитка.
Человек в плаще сел и, устремив на присутствовавших серенькие глаза, с особенным вниманием вслушивался в речи. Ермолай (так звали конюшего князя-кесаря Ромодановского) хотел было завернуть в избу, но, одумавшись, остался. Он поплевал на руку, вычистил ею полы чекменя, опустил шаровары, которые, для сохранения от грязи, были осторожно подобраны в голенища сапогов, потом погладил правою рукой усы, а левою несколько приподнимая богатую свою шапку, важно подошел к людям шумно толковавшим близ угла избы, и приветствовал разговаривавших следующею речью:
— Добрый день, честные люди!
— Добра и здоровья желаем! — отвечали ему.
Лице княжеского конюшего в пестрой и довольно грязной толпе, окружавшей кабак, было явлением чрезвычайно важным; шапки невольно снялись, сперва с тех, кто находился близ Ермолая и видел его, а после и с отдаленных людей, видевших только, что впереди их были головы без шапок; многие рты затворились из уважения.
— Что нового? Не к празднику ли изволите? — спросил Ермолай.
— Вестимо, милостивец, как не помолиться да не полюбоваться на великого государя императора? Дай Бог ему новорожденному здравствовать!
— Дай Бог! Да и новости, сказывают, будут!
— Слышали мы, слышали! — раздалось в толпе. Одни кричали, что на Троицкой площади царь будет сам говорить речь и объявит о милостях народу. Другие утверждали, что приказано раздавать после обедни деньги; некоторые говорили, что в комендантском доме станут даром показывать нового зверя; третьи толковали о повелении, которым позволено всем носить по-прежнему бороды и кафтаны; словом, каждый объявлял свою весть, утверждая, что она справедливее прочих. Шум был общий, когда в толпе громко прохрипел чей-то голос: «Все это пустяки, а вот что верно: Питер уступают шведам, народ же гонят под Москву! Да и слава Богу. Давно бы пора!»