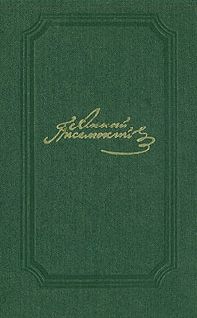Алексей Писемский - Боярщина
Камердинер вышел и скоро возвратился со свечою.
- Савелий Никандрыч у Анны Павловны, - проговорил он.
- Что с ней, что она? - спросил дрожащим голосом Сапега.
- Не могу доложить, ваше сиятельство, должно быть, хуже, Савелий Никандрыч укладывают их в постель.
Крики снова раздались.
- Господи, сохрани ее! - воскликнул граф. - Послушай, теперь можно ехать.
- Куда, ваше сиятельство?
- В Петербург; вели приготовлять лошадей, я сейчас еду в Петербург.
Камердинер стоял в недоумении.
- Сейчас еду, - повторил граф, - вы приедете после. Вели готовить лошадей.
Камердинер вышел.
Оставшись один, граф подошел к рабочему бюро и взял было сначала письменный портфель, видно, с намерением писать; но потом, как бы что-то вспомнив, вынул из шкатулки пук ассигнаций и начал их считать. Руки его дрожали, он беспрестанно ошибался. Вошел камердинер, и граф, как пойманный школьник, поспешно бросил отсчитанную пачку опять назад в шкатулку.
- Вам угодно переодеться? - спросил тот.
- Приготовь.
Камердинер вышел.
Сапега вынул из портфеля лист почтовой бумаги и написал скорей какими-то каракулями, чем буквами:
"Мой любезный Савелий Никандрыч! Нечаянное известие заставляет меня сию минуту ехать в Петербург. Я слышал, что Анне Павловне хуже, посылаю вам две тысячи рублей. Бога ради, сейчас поезжайте в город и пользуйте ее; возьмите мой экипаж, но только не теряйте времени. Я не хочу больную обеспокоить прощаньем и не хочу отвлекать вас. Прощайте, не оставляйте больную, теперь она по преимуществу нуждается в вашей помощи. Эльчанинов оказался очень низким человеком.
Сапега".
Граф торопливо свернул письмо, вложил в конверт и запечатал.
- Лошади готовы-с, - сказал вошедший камердинер.
Сапега проворно переоделся в дорожное платье.
- Отдай это письмо Савелию Никандрычу, - сказал он, подавая ему пакет, - и вели управителю дать ему мой экипаж, он с больной скоро уедет. Вы соберитесь послезавтра.
Эти слова граф говорил, уже проходя залу и последуемый камердинером, который нес за ним шкатулку и портфель. Лестницу Сапега пробежал бегом.
- Постойте, ваше сиятельство, - раздался голос сверху. - Скажите, жив или нет Валерьян Александрыч?
- Жив, - отвечал граф. - Пошел! - крикнул он, и экипаж помчался.
На крыльце остался бледный Савелий, в руках у него было письмо Эльчанинова, найденное им на постели больной.
- Его сиятельство приказали вам отдать письмо! - сказал камердинер, подавая ему письмо графа.
- Куда уехал граф?
- В Петербург.
- Анна Павловна очень тоскует, - послышался голос горничной.
Савелий бросился в комнаты.
XI
Савелий снова поселился в своем домике. Вместе с ним жила больная и помешанная Анна Павловна. Граф, растерявшийся, как мы видели, вконец, написал к Савелью письмо, в котором упоминал о деньгах, но самые деньги забыл вложить. Савелий, пораженный припадком безумия Анны Павловны, потом известием о смерти Эльчанинова, нечаянным отъездом самого графа и, наконец, новым известием, что Эльчанинов жив, только на другой день прочитал это письмо и остался в окончательном недоумении. Он начал было спрашивать людей, не оставил ли кому-нибудь граф, но те отвечали, что его сиятельство приказали только приготовить экипаж для отъезда Анны Павловны, куда ей будет угодно. Поступок графа крайне удивил его. "Он, верно, был ночью у Анны Павловны и показал письмо о смерти Эльчанинова, а теперь, когда она помешалась, он бежал, будучи не в состоянии выгнать ее при себе из дома; но как же в деньгах-то, при его состоянии сподличать, это уж невероятно!.." Подумав, Савелий в тот же день потребовал экипаж и перевез больную к себе в Ярцово.
Флигелек его разделялся на две половины, в одной из них жил его мужик с семейством и пускались по зимам коровы и овцы, а другую занимал он сам. Последняя была, в свою очередь, разгорожена на две комнатки - на прихожую и спаленку, в которой он поместил больную.
Прошла неделя, Анне Павловне было все хуже. Савелий сидел, облокотясь на деревянный некрашеный стол и понурив голову. Боже! Как изменился он с тех пор, как мы в первый раз с ним встретились: здоровый и свежий цвет лица его был бледен, густые волосы, которые он прежде держал всегда в порядке, теперь безобразными клочками лежали на голове; одет он был во что попало; занятый, как видно, тяжелыми размышлениями, он, впрочем, не переставал прислушиваться, что делалось в соседней комнате. Наконец, двери оттуда тихо отворились: вышла баба в нагольном тулупе и ситцевом повойнике.
- Что, Аксинья? - спросил Савелий.
- Мечется, сердечная, больно, - отвечала та.
- Что-то Кузьма, скоро ли приедет? - проговорил Савелий.
- Ну, где еще скоро, поди, чай, дешево дают. Только мне жаль больно, Савелий Никандрыч, кобылу-то: корова пускай, нешто, плоха была к молоку, кобылы-то больно жаль, славная была и жереба еще к тому.
- Ну, что тут вздор жалеть, лекарь бы только приехал.
- Ох, уж вы с вашими лекарями-то: ну, что опомнясь: постоял, да и уехал, а еще красненькую дали.
- Холодной водой хотел попробовать обливать, - проговорил Савелий как бы сам с собою.
- Вон еще, холодной водой обливать, словно пьяного мужика, - подхватила баба. - Послушались бы меня, отслужили бы учетный молебен: ей вчерась, после причастья, словно полегче стало. Отец Василий больно вон горазд служить. Я спосылаю парнишку.
- Спосылай! - отвечал Савелий.
Баба ушла, воротилась и опять прошла в спальню. Савелий все сидел, не переменяя своего положения; наконец, Аксинья снова вышла.
- Батюшка, Савелий Никандрыч, - начала она, - голубушка-то наша что-то больно уж тяжко дышит и ручки вытянула, уж не кончается ли она?
Савелий вскочил и торопливо вошел в спаленку. Аксинья последовала за ним.
Больная лежала вверх лицом, глаза ее были закрыты, безжизненное выражение лица безумной заменилось каким-то спокойствием. Она действительно тяжело дышала. Савелий приблизился и взял ее за руку, больная взмахнула глазами: Савелий едва не вскрикнул от радости, в глазах ее не было прежнего безумия.
- Анна Павловна! Узнали ли меня? - спросил он.
Но она только ласково улыбнулась и, ничего не ответив, снова закрыла глаза. Бог судил ей в последний раз прийти в себя и посмотреть на истинно любящего ее человека. Дыхание ее стало учащаться, лицо более и более бледнело.
Приехал священник и вместо учетного молебна начал читать отходную. Через несколько минут она скончалась. Аксинья завыла во весь голос, священник, несмотря на привычку, прослезился. Окончив отходную, он отер глаза бумажным платком и в каком-то раздумье сел на стул. Савелий стоял, прислонясь к косяку, и глядел на покойницу.
- Умерла она, батюшка? - спросил он священника.
- Померла, сударь, прияла успокоение, - отвечал священник. - Сном праведника почила, на редкость у младенцев такая тихая кончина.
- Холоднешенька, моя родная, - говорила Аксинья, щупая руки умершей и заливаясь слезами.
Савелий вышел в другую комнату и сел на прежнее место. Аксинья ушла позвать на помощь соседок, обряжать покойницу. Священник зажег несколько восковых свечей и начал кадить ладаном.
Вошел воротившийся Кузьма.
- Лекарю-то некогда, к нему какой-то генерал приехал, так, слышь, все и сидит у него, - сказал он после минутного молчания, видя, что барин ничего его не спрашивает.
- А продал ли, что я велел? - спросил, наконец, Савелий.
- Продал, Савелий Никандрыч, да только дешево дали, за обеих-то семьдесят пять рублей. - С этими словами он положил деньги на стол.
- Довольно на похороны? - спросил Савелий священника.
- Да ведь как повернете? Надо полагать, что довольно.
Савелий вздохнул.
В Могилках тоже были слезы. В той же самой гостиной, в которой мы в первый раз встретили несокрушимого, казалось, физически и нравственно Михайла Егорыча, молодцевато и сурово ходившего по комнате, он уже полулежал в креслах на колесах; правая рука его висела, как плеть, правая сторона щеки и губ отвисла. Матрена, еще более пополневшая, поила барина чаем с блюдечка, поднося его, видно, не совсем простывшим, так что больной, хлебнув, только морщился и тряс головою.
- Что поп?.. Помолится, - проговорил намеками Михайло Егорыч.
- Послали, батюшка... не замешкают, приедут, - отвечала Матрена. Похороны, слышь, у них сегодня! - прибавила она, вздохнув.
- Чьи? - намекнул Михайло Егорыч.
Матрена некоторое время медлила.
- Нашей Анны Павловны, батюшка, - ответила, наконец, она.
Мановский вдруг заревел на весь дом.
- Батюшка! Да о чем это? Что это, полноте...
- Мне жаль ее, - промычал явственно Мановский и продолжал рыдать.
Пришли священники и стали служить всенощную. Михайло Егорыч крестился левой рукой и все что-то шептал губами, а когда служба кончилась, он подозвал к себе Матрену, показал ей рукой на что-то под диван. Та, видно, знавшая, вынула оттуда железную шкатулку.