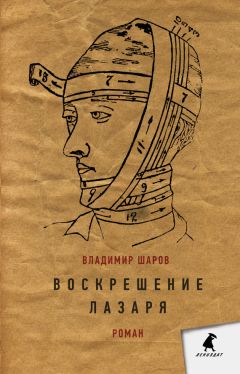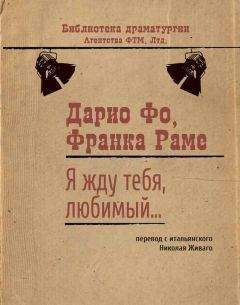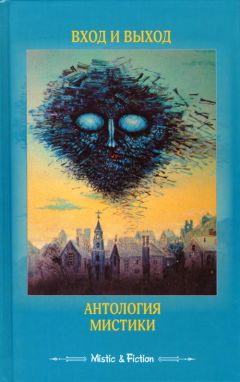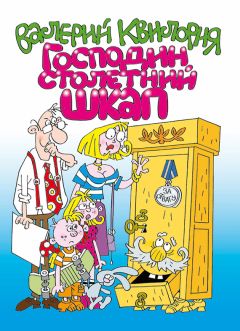Владимир Шаров - Воскрешение Лазаря
В Сызрани Катя прожила год, а Феогност из-за ареста чуть меньше. Сестра ни в чем ее не обманула, и разочарований почти не было. Как и надеялась Катя, уехав от Судобовых, Феогност скоро кончил и свои игры с бесами. Не то чтобы он раскаялся, понял, что грешил, нет, скорее ему просто стало скучно. Вообще в Сызрани он успокоился, снова каждый день помногу работал, в частности, меньше чем за девять месяцев написал большую работу о влиянии исихазма на русское монашество. Те люди, о которых в своем письме говорила сестра, и вправду окружили его будто дети. Было видно, как раньше им не хватало подобного человека. Они приходили к Феогносту два-три раза в неделю и подолгу беседовали о божественном и просто о житейском. Сказать, что Феогност был этим визитам очень рад, рассказывала Катя тетке, нельзя, но он и никому не отказывал: "Пять-шесть человек, что регулярно бывали у нас дома, верующих целой епархии, конечно, заменить не могли. Получалось, что ГПУ он обманул, а себя - не вышло".
Феогност ведь был очень хорошим епископом - честным, искренним, добрым, а вот стать юродивым ему никак не удавалось. "Если хочешь, - говорила Катя, - он был чересчур непрост, и опроститься, поверить, что сейчас нельзя лучше служить Богу, чем собственным калом писать на стене тюремной камеры, что новая власть - дерьмо, он не мог. Был не так воспитан. Головой он понимал, даже убедил себя, что другого пути нет, но повторить, сделать то, что, например, делала Варвара, был не в состоянии. Тем более как в своей стихии в этом жить. Он молился, просил Бога, чтобы тот помог ему, дал на это силы, он готов был проклинать свой ум, свое образование - теперь все это казалось ему помехой, злом, тем, что заставляет и церковь идти на немыслимые, преступные компромиссы. То есть ум, знания лишь ослабляли веру, мешали ей, не давали противостоять злу, и вот он ночи напролет молил Бога помочь это забыть или лучше вообще никогда не знать".
Когда он так молился, смотреть на него было нестерпимо. Катя не могла видеть, как бессильна его молитва, как бессилен он сам, не хотела знать, что Бог с этим юродством никогда не станет ему помогать, или потому, что это невозможно, или потому, что Богу от него надо совсем другое. Не выдержав, она уходила к себе в комнату и там, мешая слезы с собственной молитвой, тоже начинала просить Бога, чтобы он, видя как Феогност мучается, сжалился над ним. Она тогда была в очень плохом состоянии, напрочь не знала, что делать, даже написала два для себя необычайно откровенных письма Нате, где в общем и целом рассказала, что у них происходит. Некоторые куски из этих писем на фоне ее всегдашней сдержанности можно счесть просто паническими.
В Сызрани Феогност иногда на неделю и больше, никого не предупредив, исчезал из дома. Потом, спустя обычно немало времени, до нее доходили слухи, что его видели то на этой дороге, то на той, он шел неизвестно куда, бормоча себе под нос бессвязный бред. Она думала тогда, говорила и с сестрой: неужели это можно назвать словом Божьим, а если это и так, то разве в подобном обличье оно способно кого-нибудь утешить? От своей беспомощности она просто сходила с ума. Юродство не давалось Феогносту, оставалось маской, в лучшем случае игрой. Против этой роли в нем все протестовало, она была тесна, жала, терла, и он не выдерживал, скоро возвращался домой. Начинал писать какую-то новую работу, начинал о ней думать, а об юродстве забывал.
В Сызрани Катя почти каждый день ходила в церковь, чаще в дальний из двух оставшихся в городе храмов - Ильи Пророка. Там она обычно молилась у иконы Девы Марии и двух других икон, Николая Угодника и святого Ильи, ставила им свечи. Почему-то ей казалось, что именно эти трое вернее всего ей помогут. Молиться самому Богу она побаивалась. Она молилась Деве Марии и этим святым, просила, чтобы они помогли Феогносту, и говорила, что вот она легко может стать юродивой. Ей совсем не трудно надеть рубище, даже перестать мыться и, как другие странницы, пойти куда глаза глядят. Почему же это хорошо и правильно, спрашивала она святых, что она, Катя, которая куда меньше и не так чисто, как Феогност, верит в Бога, никогда не собиралась Ему служить, почему ей это дано, а ему нет? Ей это казалось нечестным, и она, ставя свечку за свечкой, просила, а иногда вслед за Феогностом и требовала, чтобы несправедливость была исправлена.
Однажды, когда она так молилась у иконы Девы Марии, ей вдруг почудилось, будто кто-то говорит: "Катя, придет время, и ты Феогносту поможешь, только погоди, не спеши". Ей и раньше не раз приходило в голову, что, наверное, и вправду она должна пойти первая, но она видела, как Феогност от нее зависим, как грустит, когда ее нет рядом, и решиться не могла.
Она говорила себе, что вот если она пойдет гулять по Руси, еще неизвестно, как все сложится, сможет ли она стать настоящей юродивой, а если станет, поймет ли он, разберет ли ее урок - тут еще бабушка надвое сказала, в конце концов у Феогноста и без нее было достаточно учителей, а что он, оставшись один, наверняка решит, что его все бросили, и уже не выкарабкается, это точно. И она не рискнула. Тетке Катя говорила, что, конечно, правильно, что она тогда не пошла, во всем должен быть порядок и строй, и она, прежде этой главной службы с юродством, должна была сослужить Феогносту другую.
Летом 30-го года, как раз в одну из Феогностовых отлучек, в Сызрань на их адрес вдруг пришло письмо от Коли, бывшего ее жениха и брата Феогноста и еще, о чем она теперь сразу подумала, тоже странника, но куда более удачливого, чем Феогност. Раньше сам он никогда ей не писал. Все свои рассуждения о Боге и России, предназначавшиеся для Феогноста, он отправлял Нате, та перебеливала их и прилагала к собственным письмам к Кате. Большие письма от Наты приходили и в Пермь, и в Нижний, и сюда, в Сызрань, не реже, чем два раза в месяц; Ната писала о себе, но большую часть каждого письма составляли Колины соображения о судьбах мироздания. Коле казалось, что так Феогност, который и сейчас мало в чем мог отказать Нате, вернее ему ответит. Феогност эти богословские части не любил, Коля вообще многим его раздражал, а его нынешняя затея пройти пешком от Москвы до Владивостока и тем самым начать склеивать, собирать Россию, представлялась ему просто глупостью. Серьезно разбираться в Колином богословии он тоже не желал. И все-таки время от времени и из-за Наты, и под давлением ее, Кати, отвечал двумя-тремя мало что значившими фразами и уже знал, что каждая его реплика вызовет волну Колиных идей и вопросов.
И вот Коля ей написал, что хотя они с Натой формально по-прежнему муж и жена, Ната три последних года живет с их бывшим другом, неким Ильей Спириным, который когда-то был детским врачом, логопедом, а сейчас ни много ни мало один из заместителей Менжинского в ГПУ. Пишет он ей это, вовсе не чтобы на Нату пожаловаться, повод куда серьезнее. Две недели назад ему случайно стало известно, что Ната решила со Спириным расстаться и едет в Сызрань, по всей видимости, будет пытаться возобновить прежние отношения с Феогностом и дальше жить уже с ним.
Тут, Анечка, надо сделать одно уточнение: насчет того, что про намерение Наты он узнал случайно, Коля лукавит. После Колиной смерти его архив перешел к Феогносту, а теперь, после смерти и Феогноста и тетки, достался мне: так вот в нем есть три собственных Натиных письма Коле, где обо всем этом он проинформирован и подробно и совершенно откровенно. В первом Ната пишет, что Илью со дня на день должны перевести на работу в Ленинград, и она твердо решила и уже ему это сказала, что с ним не едет. У нее другие планы, о которых сейчас она говорить не готова.
Неделю спустя, то есть 23 июня, она написала Коле, что все его письма она с начала до конца, будто секретарь, исправно переписывала и отсылала Феогносту, но из Сызрани, как говорится, ни ответа, ни привета. Чуть ли не в каждом письме она спрашивает Катю, передается ли Феогносту, что ты ему пишешь, читает ли он это, а если читает, то почему не отвечает? Много раз она по сему поводу устраивала Кате скандалы, пыталась объяснить, где и в каких условиях ты все пишешь, говорила, что ночи недосыпаешь, голодный, мокрый, промерзший... И как для того, что ты делаешь, и вообще тебе важно знать, что Феогност на сей счет думает.
Я, писала Ната Коле, и скандалила, и на жалость била, делала это отнюдь не потому, что считала, что перед тобой из-за Ильи виновата, а потому, что некоторые твои мысли казались мне и интересными, и важными. Знаю, ты не мне их писал, мое мнение совсем тебя не интересует, я лишь формальный адресат, моего в тех письмах нет, только обращение. Даже слова, которыми ты каждый раз объясняешься в любви, тоже адресованы Феогносту. Ты ему объясняешься, перед ним замаливаешь свой грех, каешься, что струсил, бросил его на полдороги. Катя сначала не желала со мной разговаривать и на письма отвечала до крайности сухо, короткими отписками, из которых понять ничего было нельзя, но постепенно я от нее многого добилась, наверное, помогло то, что у них там в Перми и в Сызрани начались немалые неприятности.