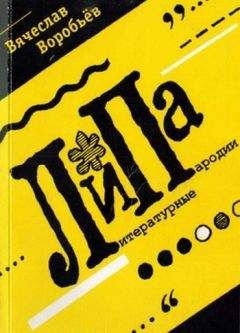Владимир Набоков - Под знаком незаконнорожденных
— Мак!
Ответа все не было, и подождав немного, Квист решил сам подняться наверх за нужной ему вещью.
Круг разглядывал валявшиеся по полке скудные вещицы: старый ржавый велосипедный звонок, бурую теннисную ракету, вставочку из слоновой кости с крохотным хрусталиком на конце. Он заглянул в него, прикрыв один глаз, и увидал киноварный закат и черный мост. Gruss aus Padukbad.
По лестнице, попрыгивая и напевая, спустился Квист со связкой ключей в руке. Он выбрал самый блестящий из них и отпер потайную дверцу под лестницей. Молча указал на длинный проход. Старые афиши и голенастые водопроводные трубы тянулись вдоль тускло освещенных стен.
— Ну что ж, огромное вам спасибо, — сказал Круг.
Но Квист уже захлопнул за ним дверь. Круг шагал по проходу, не застегнув плаща, сунув руки в карманы штанов. Тень провожала его, похожая на негра-носильщика, ухватившего слишком много баулов.
Наконец он пришел к другой двери — из грубых досок, грубо сколоченных воедино. Он толкнул ее и вышел в свой собственный задний двор. Назавтра поутру он спустился сюда, чтобы посмотреть на этот выход глазами входящего. Однако выход был теперь умело замаскирован, сливаясь частью с какими-то досками, подпиравшими забор, частью с дверцей пролетарского нужника. Рядом, сидя на нескольких кирпичах, приписанные к его дому скорбные сыщики и известного сорта шарманщик играли в chemin de fer; замызганная девятка пик валялась у них в ногах на усыпанной пеплом земле и, одновременно с укусом нетерпеливого желания, он увидел станционный перрон и игральную карту, оживлявшую вместе с кусками апельсиновой кожуры угольный сор между рельсами, под пульмановским вагоном, пока еще ждущим его в слиянии лета и дыма, но через минуту готовым ускользнуть со станции, мимо, мимо, в сказочные туманы невероятных Каролин. И провожая его вдоль темнеющих топей, неотлучно маяча в вечернем эфире, скользя телеграфными проводами, целомудренный, как водный знак на веленевой бумаге, летящий плавно, словно прозрачный клубочек клеток, косо плывущий в истомленных глазах, лимонно-бледный близнец лампиона, сияющего над головой пассажира, будет таинственно странствовать по бирюзовым ландшафтам в окне.
16
Три стула один за другим. Та же идея.
— Что?
— Скотоловка.
Скотоловку изображала доска для китайских шашек, прислоненная к ножкам переднего стула. Задний стул — смотровой вагон.
— Понятно. А теперь машинисту пора в постель.
— Скорее же, папа. Залазь. Поезд отправляется!
— Послушай, душка —
— Ну пожалуйста. Присядь хоть на минуту.
— Нет, душка, — я же сказал.
— Но ведь на минуту только. Ну папа! Мариэтта не хочет, ты не хочешь. Никто не хочет ехать со мной в моем суперпоезде.
— Не сейчас. Право же, время —
Отправляться в постель, отправляться в школу, — время сна, время обеда, время купания и ни единого разу просто "время"; время вставать, время гулять, время возвращаться домой, время гасить свет, время умирать.
И какая же мука, думал мыслитель Круг, так безумно любить крохотное существо, созданное каким-то таинственным образом (таинственным для нас еще более, чем для самых первых мыслителей в их зеленых оливковых рощах) слияньем двух таинств или, вернее, двух множеств по триллиону таинств в каждом; созданное слияньем, которое одновременно и дело выбора, и дело случая, и дело чистейшего волшебства; созданное упомянутым образом и после отпущенное на волю — накапливать триллионы собственных тайн; проникнутое сознанием — единственной реальностью мира и величайшим его таинством.
Он увидел Давида, ставшим старше на год или два, сидящим на чемодане в ярких наклейках — на пирсе, у здания таможни.
Он увидел его катящим на велосипеде между сверкающих кустов форситий и тонких, голых стволов берез, по дорожке со знаком "Велосипедам запрещено". Он увидел его на краю плавательного бассейна в черных и мокрых купальных трусах, лежащим на животе, резко выступала лопатка, откинутая рука вытряхивала радужную воду, налившуюся в игрушечный эсминец. Он увидел его в одной из тех баснословных угловых лавок, что выставляют пилюли на одну улицу и пикули на другую, взобравшимся на насест у стойки и тянущимся к сиропным насосам. Он увидел его подающим мяч особенным кистевым броском, неизвестным у него на родине. Он увидел его юношей, пересекающим техниколоровый кампус. Он увидел его в чудном костюме (вроде жокейского, но с иной обувкой и гетрами) для игры в американский футбол. Он увидел его обучающимся летать. Он увидел его двухлетним, на горшке, подскакивающим, мурлыкая песенку, подскоками ездящим на визгливом горшке по полу детской. Он увидел его сорокалетним мужчиной.
В канун назначенного Квистом дня он навестил мост: он вышел на рекогносцировку, поскольку ему представилось, что место встречи может оказаться небезопасным из-за солдат; однако солдаты давно исчезли, на мосту было пусто, и Квист мог прийти, откуда ему заблагорассудится. На Круге была лишь одна перчатка, и очки он забыл, и потому не мог перечитать врученную ему Квистом подробную справку со всеми паролями и адресами и с наброском карты, и с ключом к шифру всей жизни Круга. Это, впрочем, было неважно. Небо прямо над ним простегивали лиловато-волнистые выплески тучного облака; громадные, сероватые, полупрозрачные, корявые хлопья снега опадали медленно и отвесно и, касаясь темной воды Кура, уплывали вместо того, чтобы сразу растаять, и это его удивило. Вдали, за обрывом облака, внезапная нагота неба и реки улыбнулась прикованному к мосту зрителю, одарив перламутровым светом очерк далеких гор, и этот свет по-разному перенимали у гор река и улыбчивая печаль, и первые вечерние огоньки в окнах приречных домов. Наблюдая за снежными хлопьями на прекрасной и темной воде, Круг заключил, что либо снежинки были настоящие, а вода не была настоящей водой, либо вода настоящая, а снежинки сделаны из какого-то особого нерастворимого вещества. Чтобы решить эту проблему, он уронил вдовую перчатку с моста; но ничего неестественного не случилось: перчатка просто проткнула оттопыренным указательным пальцем зыбкую гладь воды, нырнула и была такова.
На южном берегу (с которого он пришел) он видел вверх по течению красноватый дворец Падука и бронзовый купол собора, и безлиственные деревья городского сада. На другом берегу стояли в ряд старые доходные дома, а за ними (незримая, но бухающая в сердце) помещалась больница, в которой она умерла. Пока он невесело впитывал все это в себя, сидя бочком на каменной скамье и глядя на реку, вдалеке показался буксир, волокущий большую баржу, и в то же мгновение одна из последних снежинок (облако над головой, казалось, истаяло в щедро вспыхнувшем небе) легла ему на нижнюю губу; снежинка оказалась обычной, мягкой и влажной, но может быть те, что падали прямо на воду, были иными. Буксир степенно приближался. Когда он почти изготовился поднырнуть под мост, двое мужчин, вцепившись в веревку и натужно оскалясь, оттянули огромную черную с двумя пурпурными кольцами трубу назад, назад и книзу; один из них был китайцем, как и все почти речники и прачники города. На барже за буксиром сохло с полдюжины ярких рубах и горшки с геранью виднелись на корме, и очень толстая Ольга в желтой, совсем ему не понравившейся блузе, смотрела вверх на Круга, уперев руки в бока, пока баржу в ее черед плавно заглатывала арка моста.
Он проснулся (раскоряченный в своем кожаном кресле) и сразу понял, — случилось что-то необычайное. Оно не относилось ни к сну, ни к совершенно неспровоцированному и довольно смешному физическому неудобству, которое он испытывал (местная гиперемия), ни к чему бы то ни было, вспомнившемуся при появлении комнаты (неопрятной и пыльной в неопрятном и пыльном свете), ни даже ко времени суток (четверть девятого вечера; он заснул после раннего ужина). Случилось вот что: он понял, что снова может писать.
Он направился в ванную, принял холодный душ, молодчага-бойскаут, и дрожа от духовного пыла и ощущая чистоту и уют пижамы и халата, досыта напоил перо-самотек, но тут вспомнил, что время идти прощаться с Давидом, и решил покончить с этим теперь, чтобы его не прерывали потом призывы из детской. Три стула так и стояли в коридоре один за другим. Давид лежал в постели и, быстро помахивая карандашом, ровно затушевывал лист бумаги, уложенный поверх фиброзной, мелкозернистой обложки большой книги. Звук получался не без приятности — шаркающий и шелковистый, с легким нарастанием басовых вибраций, подстилающих шелест карандаша. По мере того, как серела бумага, проявлялась точечная текстура обложки, и наконец, с волшебной точностью и вне всякой связи с направлением карандашных штрихов (наклонных по воле случая) возникли высокие, узкие, белесые буквы оттисненного слова АТЛАС. Интересно, если вот так же затушевать чью-либо жизнь —