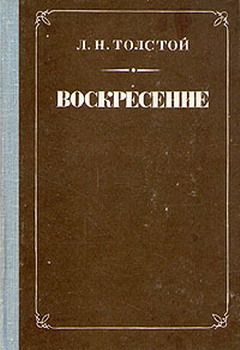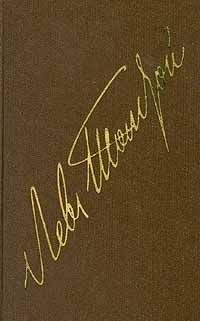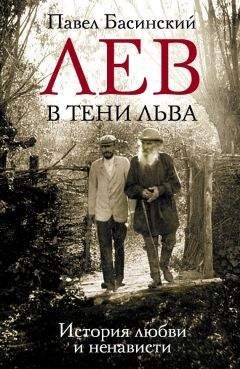Лев Толстой - Воскресение
Нехлюдов пробыл в этой комнате минут пять, испытывая какое-то странное чувство тоски, сознанья своего бессилья и разлада со всем миром; нравственное чувство тошноты, похожее на качку на корабле, овладело им.
XLII
«Однако надо делать то, за чем пришел, – сказал он, подбадривая себя. – Как же быть?»
Он стал искать глазами начальство и, увидав невысокого худого человека с усами, в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему:
– Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать, – сказал он с особенно напряженной вежливостью, – где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются?
– Вам разве в женскую надо?
– Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных, – с тою же напряженною вежливостью отвечал Нехлюдов.
– Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть?
– Мне нужно видеть Екатерину Маслову.
– Она политическая? – спросил помощник смотрителя.
– Нет, она просто…
– Она, что же, приговоренная?
– Да, третьего дня она была приговорена, – покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нем участие.
– Коли в женскую, так сюда пожалуйте, – сказал смотритель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания. – Сидоров, – обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями, – проводи вот их в женскую.
– Слушаю-с.
В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания.
Все было странно Нехлюдову, и страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем, перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме.
Надзиратель вывел Нехлюдова из мужской посетительской в коридор и тотчас же, отворив дверь напротив, ввел его в женскую комнату для свиданий.
Комната эта, так же как и мужская, была разделена натрое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Так же между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с галунами на рукавах и синими выпушками и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди: с этой стороны – в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны – арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через головы других быть слышными, другие сидели на полу и переговаривались.
Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой, потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Это была Федосья с своим мужем. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной; потом две женщины, мужчина, опять женщина; против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток, на той стороне, стояла еще одна женщина, и Нехлюдов тотчас же понял, что это была она, и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосьи и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы.
«Сейчас решится, – думал он. – Как мне позвать ее? Или сама подойдет?»
Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней.
– Вам кого нужно? – спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками.
– Екатерину Маслову, – едва мог выговорить Нехлюдов.
– Маслова, к тебе! – крикнула надзирательница.
XLIII
Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, с своим, знакомым Нехлюдову, выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его.
Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась.
– Вы ко мне? – сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо.
– Я хотел видеть… – Нехлюдов не знал, как сказать: «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. – Я хотел видеть вас… я…
– Ты мне зубы-то не заговаривай, – кричал подле него оборванец. – Брала или не брала?
– Говорят тебе, помирает, чего ж еще? – кричал кто-то с другой стороны.
Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
– Не слыхать, что говорите, – прокричала она, щурясь и все больше и больше морща лоб.
– Я пришел…
«Да, я делаю то, что должно, я каюсь», – подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
– Я говорю: зачем встреваешь, куда не должно… – кричали с одной стороны.
– Верь ты Богу, знать не знаю, – кричала арестантка с другой стороны.
Увидав его волнение, Маслова узнала его.
– Похоже, да не признаю, – закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее.
– Я пришел затем, чтобы просить у тебя прощения, – прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок.
Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал:
– Прости меня, я страшно виноват перед… – прокричал он еще.
Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда.
Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания.
Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно, заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал:
– Не могу говорить через решетку, ничего не слышно.
Смотритель задумался.
– Ну, что же, можно вывести ее сюда на время.
– Марья Карловна! – обратился он к надзирательнице. – Выведите Маслову наружу.
Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и исподлобья взглянула на него. Черные волосы, так же как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками, лицо, нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно; только глянцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.
– Можно здесь говорить, – сказал смотритель и отошел.
Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены.
Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.
– Я знаю, что вам трудно простить меня, – начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают, – но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите…
– Как это вы нашли меня? – не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя и не глядя на него своими косыми глазами.
«Боже мой! Помоги мне. Научи меня, что мне делать!» – говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.
– Я третьего дня был присяжным, – сказал он, – когда вас судили. Вы не узнали меня?
– Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела, – сказала она.
– Ведь был ребенок? – спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
– Тогда же, слава Богу, помер, – коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
– Как же, от чего?
– Я сама больна была, чуть не померла, – сказала она, не поднимая глаз.
– Как же тетушки вас отпустили?
– Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Да что говорить, – не помню ничего, все забыла. То все кончено.
– Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех.
– Нечего искупать; что было, то было и прошло, – сказала она, и, чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась.