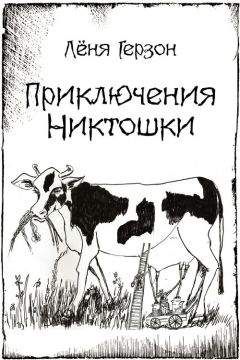Александр Солженицын - Рассказы (сборник)
Я оглядел его тряпьё и ещё раз его самого.
– Почему ж не платят?
– Жизнь так полегла, – вздохнул он. – Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили… Сам я виноват, справок не скопил… Одна вот только есть…
Правую кисть – суставы пальцев её были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу – он донёс до кармана, стал туда втискивать, – но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.
Солнце уже западало за здания корпусов, и в приёмный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.
Я взял старика за плечо:
– Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь – сам дойди, нет – меня подожди. Мешочек твой я заберу.
Он кивнул, будто понял.
В приёмном покое – куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, переодевальня, парикмахерская), днём всегда теснились больные и измирали долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивленье, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густо-лиловой помадой.
– Вам чего? – Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.
Быстренькие такие у неё были глазки.
Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:
– Он еле ходит. Сейчас я его доведу.
– Не смейте никого вести! – резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. – Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!
Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришепячивая:
– Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестёрках.
Она сробела, отодвинула стул в глубь своей комнатёнки и сбавила:
– Приёма нет, гражданин! В девять утра.
– Ты – прочти бумажку! – очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом.
Она прочла.
– Ну и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром – не было.
Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.
– Но человек – проездом, понимаете? Ему деться некуда.
По мере того как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо её принимало прежнее жестоко-весёлое выражение:
– У нас все приезжие! Куда их ложить? Ждут! Пусть на квартиру станет!
– Но вы – выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.
– Ещё чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!
И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиною заведена на ответы.
– Так для кого вы тут сидите?! – хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. – Тогда заприте двери!
– Вас не спросили!! Нахал! – взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика. – Кто вы такой? Не учите меня! Нам скорая помощь привозит!
Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик её украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты – и виднелась косынка розовенькая славная и комсомольский значок.
– Как? Если б он не сам к вам пришёл, а его б на улице подобрала скорая – вы б его приняли? Есть такое правило?
Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я – оглядел её. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:
– Да, больной! Есть такое правило.
И ушла за перегородку.
Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истёртый бумажник.
– Вот… – измождённо выговаривал он, – …вот, покажите ей… пусть она… вот…
Я успел его поддержать, – опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.
Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Справка.
Дана сия товарищу Боброву Н. К. в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов.
Комиссар»Подпись.
И бледная фиолетовая печать.
Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:
– Это что ж – «Особого Назначения»? Какой?
– Ага, – ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. – Покажите ей.
Я видел его руку, его правую кисть – такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-опухшими суставами, почти неспособную вытянуть справку из бумажника.
И вспомнил эту моду – как пешего рубили с коня наотмашь наискосок.
Странно… На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать – бумажника…
Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил её. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.
Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, всё время поглаживая грудь от тошноты, пошёл к выходу. Мне надо было лечь быстрей, головою пониже.
– Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! – стрельнула девица через форточку мне вслед.
Ветеран глубоко ушёл в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бёдрах.
Случай на станции Кочетовка
– Алё, это диспетчер?
– Ну.
– Кто это? Дьячихин?
– Ну.
– Да не ну, а я спрашиваю – Дьячихин?
– Гони цистерны с седьмого на третий, гони. Дьячихин, да.
– Это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов! Слушайте, что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона шестьсот семьдесят… какого, Валя?
– Восьмого.
– Шестьсот семьдесят восьмого!
– Тянуть нечем.
– Как это понять – нечем?
– Паровоза нет, как. Варнаков? Варнаков, там, на шестом, четыре платформы с углем видишь? Подтяни их туда же.
– Слушайте, ка́к паровоза нет, когда я в окно вон шесть подряд вижу.
– Это сплотка.
– Что – сплотка?
– Паровозная. С кладбища. Эвакуируют.
– Хорошо, тогда маневровых у вас два ходит!
– Товарищ лейтенант! Да маневровых, я видел, – три!
– Вот рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона, он меня поправляет – три маневровых. Дайте один!
– Их не могу.
– Что значит не можете? А вы отдаёте себе отчёт о важности этого груза? Его нельзя задерживать ни минуты, а вы…
– Подай на горку.
– …а вы его скоро полсуток держите!
– Да не полсуток.
– Что у вас там – детские ясли или диспетчерская? Почему младенцы кричат?
– Да набились тут. Товарищи, сколько говорить? Очистите комнату. Никого отправить не могу. Военные грузы и те стоят.
– В этом эшелоне идёт консервированная кровь! Для госпиталя! Поймите!
– Всё понимаю. Варнаков? Теперь отцепись, иди к водокачке, возьми те десять.
– Слушайте! Если вы в течение получаса не отправите этого эшелона – я буду докладывать выше! Это не шутка! Вы за это ответите!
– Василь Васильич! Дайте трубку, я сама…
– Передаю военному диспетчеру.
– Николай Петрович? Это Подшебякина. Слушай, что там в депо? Ведь один СУшка уже был заправлен.
– Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон, и если через сорок минут… Ну, если до полседьмого вас не отправят – придёте доложите.
– Есть прийти доложить! Разрешите идти?
– Идите.
Начальник конвоя круто, чётко развернулся и, с первым шагом отпустив руку от шапки, вышел.
Лейтенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, посмотрел на военного диспетчера Подшебякину, девушку в железнодорожной форме, как она, рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона, – и из её маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери.
Комната линейной комендатуры была угловая на первом этаже, а наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышно хлеставшую за стеной, толчками ветра отводило и рассыпало то перед левое окно, на перрон, то перед правое, в глухой проходик. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставало всю станцию в инее, последние дни отсырело, а со вчерашнего дня лило этого дождя холодного не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе.