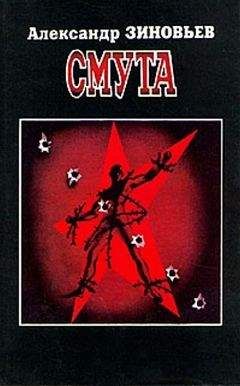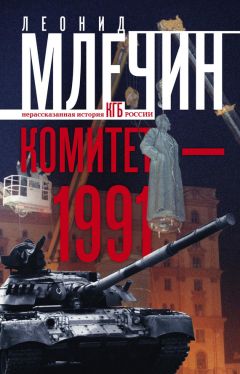Александр Мелихов - Чума
Поэтому Витя не мог бы сказать с уверенностью, сколько ночей (и, естественно, дней) отсутствовал Юрка - две или четыре.
Логически рассуждая, ночи и тогда сменялись днями, в течение которых Витя, оберегая Аню, сам снова и снова обзванивал морги и отделения милиции, которым ни на трупах, ни на задержанных блекло-голубые джинсы пока что не попадались, - но ком бытия сохранил лишь ночи. Ночи тоже были наводнены звуками - чего стоили одни только театрально предсмертные вопли котов, - но в памяти осталась только тишина и шаги в тишине. Шаги все ближе - ну давай же, давай!.. - но они удаляются все дальше, дальше, становятся все тише, тише...
И еще были дверцы - Юрка мог приехать и на такси. Вот дверца стукнула и если бы в этом мире любовь и отчаяние что-то значили, они бы создали Юрку из ночной темени и вознесли по лестнице к звонку, в котором сосредоточилась вся их мука, - но любовь так же бессильна, как и равнодушие.
Дверца. Шаги. Голосов, как ни тщится отчаявшаяся мечта, не разобрать. Шаги все тише, тише...
Шаги. Сначала усиливаются, потом замирают.
Хлопнула дверь в подъезде. Ну давай же, осталось совсем немного!..
Но звонок безмолвствует, безмолвствует... До звона в ушах.
И снова дверца. И снова мимо.
И снова шаги. И снова издевка мрака.
Мертвыми голосами они уговаривали друг друга прилечь - все равно ведь сделать ничего нельзя, остается только ждать. Но каждый в глубине души опасался этой наглостью рассердить ту силу, которая где-то держит Юрку в своих руках. Аня вообще ходила при полном параде, как на работу. Витя тоже был готов куда-то бежать, однако сидя он засыпал не раз и не два, и обломки этих снов запечатлелись в его памяти ярче, чем проведенные в ожидании дни.
...Он шел по щиколотку в жидкой грязи среди беленых бараков монастыря, в котором теперь располагалась милицейская школа, и, раскачиваясь, пытался стряхнуть дикую бродячую кошку, запустившую когти в его правую лопатку, а от бесчисленных будок к нему изо всех сил тянулись псы на цепях, так что один из них, поскользнувшись в грязи, шлепнулся на бок, но и на боку продолжал натягивать цепь...
...Витя вспомнил, что люди в серых плащах на троллейбусной остановке толпятся для того, чтобы судить его, и решил отправиться пешком; но, обходя толпу стороной, он увидел в ней епископа в пухлом раздвоенном колпаке и понял, что избегать суда не имеет права...
А третий сон был вещий сон. На кухне из пустого электрического патрона лилась струйка нечистой воды, и Аня в утреннем халате, совершенно служебно ворча по поводу соседей, ставила на огонь воду для Витиной каши, и Витя замер, увидев ее совершенно черные пряди; он взял ее за плечи, пытаясь повернуть к себе, она не давалась, но Витя все-таки ухитрился на мгновение увидеть ее широкое и совершенно незнакомое лицо; она не делала ничего плохого - просто она была чужая, притворившаяся родной, и это было так ужасно, что Витя изо всех сил попытался закричать, но издал только сдавленное сипение.
Витя перестал узнавать Аню не тогда, когда у нее появились голубые голубая кровь - мешки под глазами, а тогда, когда она начала подгонять его, чтобы он сделал совершенно бессмысленное дело - в четыреста тридцать четвертый раз позвонил старшему сыну и спросил, не появлялся ли там Юрка за те пятнадцать минут, которые прошли со времени предыдущего звонка. Да старший сын, разумеется, и сам тут же позвонил бы, но - "неужели это так трудно, я бы сама позвонила, только боюсь разрыдаться, ты этого хочешь?", "неужели нельзя единственный раз пойти мне навстречу" - и тому подобное. Витя-то уже был вполне убежден, что Юрки нет в живых, ибо на этом свете он не мог представить место, из которого в течение стольких часов и дней было бы невозможно позвонить домой, и теперь мечтал об одном: скорей бы. А страшился уже исключительно за Аню. Однако от нее он ждал чего угодно - хоть самоубийства, но - чего-то крупного: с ее образом Порядочности были несовместимы истерическая раздражительность и несправедливость - ясно же, что позвонить ему нетрудно и что навстречу он ей шел вовсе не единственный раз, а просто-таки всегда, когда мог... На фоне мертвенной тоски в его душе все же нашла силы задрожать отдельная струнка тревоги, что, пожалуй, еще и эта надежнейшая скала - Аня - может повернуться к нему совершенно незнакомой стороной. Ее словесное неряшество заставило его повнимательнее вглядеться в ее внешний облик - кажется, он не удивился бы, внезапно обнаружив ее растрепанной. Но нет, прическа ее, как всегда, была само совершенство, зато в глаза ему бросилась обнаженная краснота ее век - не накрасилась, догадался он. Может быть, подготовилась плакать поопрятнее?.. Но тогда и за языком бы...
"Последить", - этого Витя уже не позволил себе додумать: в принципе, мать, потерявшая сына, имеет право на все.
Старшему сыну не хотелось звонить еще и потому, что он разговаривал с отчетливой неприязнью - если не к тому, кто спрашивает, то к тому, о ком спрашивают: "Да живехонек он..." Но не придавать же значения подобным пустякам в такую минуту.
На этот раз старший сын, что было совершенно не в его правилах, сорвался как человек, окончательно потерявший терпение:
- Он наркоман, его поскорее надо в клинику сажать! Прежде всего не давать никаких денег. Те, что вы ему дали, он наверняка уже проторчал, главное, не давать новых. Он и мне пытался сесть на хвост... Взял с меня слово, что я вам не расскажу, но мне надоело тоже идти у него на поводу!
- А к Быстрову он не заходил? - зачем-то пролепетал Витя.
- Быстров сидит за кражу кассетника из машины. Вернется через два года.
- Зачем же он это сделал?.. Быстров?..
- На дозняк не хватило. А наш пытается соскочить с иглы. Он подсел на герыч, на героин, а хочет повмазываться джефом, это психостимулятор, на нем переломаться, а потом уже долбиться сонниками. Таковы его жизненные планы.
Жаргонные обороты старший сын выговаривал с особенной ненавистью.
Путь от "Слава богу, он жив!" до "Боже, какой позор, хорошо, что мама не дожила" Аня проделала на удивление скоро. "В чем же мы провинились?!." этот вопрос, к еще большему Витиному смятению, она задавала совершенно серьезно. "Что же нам еще предстоит?.." - ужасалась она, и здесь уже Витя, взявши полутора октавами выше, заголосил, что в такую минуту они вообще не имеют права думать о себе - ни о своем позоре, ни о своих страданиях: их сын попал в беду, он старается выкарабкаться, он в них нуждается, а потому они должны сделать все, что в их силах, - и так далее.
И когда наконец раздался полноценный долгий звонок, Витя с запрыгавшим сердцем распахнул потрескавшуюся дверь и заключил окончательно исхудавшего и почерневшего Юрку в счастливые объятия (показалось, будто обнимается с бараном - твердый лоб и никакой отдачи). Было не до слов - Юрка валился с ног, и Витя едва успел раскрыть для него раскладушечное гнездышко за шкафом: сделать это заранее Витя не решился, чтобы опять-таки не рассердить силу, завладевшую Юркиной жизнью. А теперь - самое страшное все-таки позади. Ибо как ни крути, а страшнее смерти нет ничего.
- Запомни, мы всегда будем с тобой! - с предслезной искренностью взывал Витя к аплодирующим Юркиным ступням, поскольку японские Юркины глаза растерянно блуждали по узкому зашкафному пространству. - Ты ничего не должен от нас скрывать! Если уж тебе так необходимо уколоться (вмазаться, передернулся голос старшего сына), ты скажи, я сам тебя провожу, это все-таки лучше, чем ты исчезаешь, мы... - Витя запнулся, потому что слово "волнуемся" в соседстве с тем, что они пережили, прозвучало бы смехотворно слабо.
- Лады. - Юрка обнадеженно привстал с раскладушки. - Пошли сейчас.
- Но ведь тебе лучше потерпеть, это... ломка?.. скоро должно пройти. Витя опешил от той быстроты, с которой было принято его предложение: при всей неподдельности своего порыва он невольно ждал и ответного великодушия.
- Если не хочешь, так и скажи! - детски пухлые Юркины губы запрыгали, он мгновенно сорвался на рыдание: - Чего тогда было хлестаться - "сам провожу", "сам провожу"!..
- Ну что ты так сразу, - еще больше растерялся Витя. - Я свое слово держу, только для тебя же было бы лучше...
Но Юрка сам и очень твердо знал, что для него лучше.
И по Витиной беззаветности пробежали мурашки сомнения.
- Где твой рюкзачок? - перед выходом вдруг заинтересовалась Аня.
- Проторчал. Я еще должен остался - оставил им в залог обратный билет. Но это фигня, его можно восстановить, пошли они на фиг...
- А где сережка? - Аня вгляделась в него уже более пристально.
- Мент из уха вытащил. У вас знаете, какие менты - в Израиле полицейские никогда не позволяют ничего подобного!
- Так и сидел бы в Израиле, порядочный человек и знать не должен, какие они, менты. - Аня выделила это слово не злостью, как старший сын, а брезгливостью.
- Вы ничего знать не хотите! - В Юркином голосе снова послышалось совершенно неадекватное рыдание ("вы" - он, как и в детстве, сразу объединил их в единое целое: какую воду вы мне сделали, кричал из ванной, обнаружив, что вода в ванне слишком горячая). - У ментуры под носом работают точки, их по вечерам объезжают с автоматами, собирают бабки, а менты только наркоманов трясут... да их и не очень трясут, потому что с них взять нечего, они охотятся на приличных людей, кто подвыпил, паспорт дома забыл...