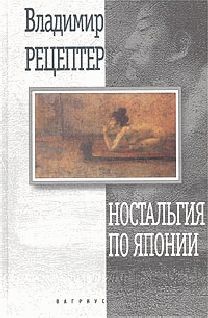Владимир Рецептер - Ностальгия по Японии
- Благодарю, благодарю вас, сенсей! - говорила она, кланяясь ему, и эти ее сложенные перед грудью ладошки и привычные короткие грациозные поклоны просто восхищали его.
И все-таки, все же...
Чем церемоннее был чайный дуэт, тем неслучайней и бесцеремоннее росло в них обоих простое и ясное желание. Несмотря на большую разницу в возрасте. А может быть, именно благодаря ей.
Страсть и нежность - вот что чувствовал он, я знаю...
А она испытывала трепет и жажду...
Семен Ефимович Розенцвейг пил чай с печеньем и задыхался, а юная Иосико так и не сделала ни глотка...
Он уже любил ее, молча и безнадежно, и, кажется, навсегда, словно от имени всего своего древнего и исстрадавшегося народа, не дающего прав своим мужчинам ронять семя в чуждое лоно. И так же молча она откликалась ему, чувствуя за спиной дыхание другого, не менее древнего мира, который налагал на нее свои запреты.
"Будьте благословенны и обнимите друг друга!" - сказал бы я им, если бы знал о тайном свиданье, но я еще ничего не знал, а они не могли догадаться, что с чайными чашками в руках уже перешли границу моих авторских владений.
Вздор, вздор, что удавшиеся герои ведут себя своевольно и вопреки родительским желаниям!.. Это автор, достигнув высшей степени любви, разрешает им делать что угодно! И, почуяв негласное разрешение, они, как японские дети, принимаются расти без отказов и наказаний. А все их ослушанья, и уходы, и вольная жизнь вне отцовских пределов чреваты болью и знаньем, и запоздалым раскаяньем, и скорбным возвращением блудных скитальцев к родительским стопам...
Моя вина, что не успел вмешаться, и вместо любой другой безделушки она подарила ему часы. Откуда ей было узнать, как не от меня, о том, что счастливые часов не наблюдают?..
Иосико подарила Семену часы, на которые он стал смотреть все время, и Большой драматический театр прослышал об этом подарке...
А когда Семен Ефимович, стесняясь, представил однажды артиста Р. своей Иосико, тот, недолго думая, разразился легкомысленным монологом о Розенцвейге, какой, мол, это замечательный человек, и великий композитор, и какой, не в пример другим, воин и мужчина!..
- Приезжайте в Ленинград, Иосико, - пел артист, не зная, как глубоко вбирает юная японка эти слова, - мы покажем вам спектакли Достоевского и Блока, вы услышите музыку Розенцвейга и увидите небо в алмазах!..
В "Ревизоре" рольку, или, скорее, эпизод, Степана Ивановича Коробкина, "отставного чиновника" и "почетного гражданина в городе" должен был сыграть Юра Демич. Именно это назначение и позволило включить его в список едущих, так как ни в одной из четырех классических пьес Юра занят не был. И вот, в порядке поощрения за заслуги в современном репертуаре, ему дали роль Коробкина и взяли на японские острова.
Но Юра начал пить еще в самолете, продолжил в поезде, развернулся на теплоходе "Хабаровск", а в Японии его сначала вообще не было видно. Чтобы отыскать Демича, завтруппой Оля Марлатова звонила завкостюмерной Тане Рудановой, потому что Таня и Андрюша Толубеев, сойдясь с Юрой "на почве консервов" - их "дортуары" в "Сателлите" шли подряд, - по-товарищески старались его как-то прикрыть. Кстати, они же первыми нашли и навели остальных на токийский магазин русской книги, и эту их безусловную заслугу я просил бы читателя отметить...
Какие у Демича были внутренние причины для питья, судить не берусь, но перед репетицией "Ревизора" в театре "Кокурицу Гокидзё" он в голубых тапочках заходил за ширму и, чтобы снять стресс, глотал валерьянку. Но валерьянка не помогла: к роли покойного Миши Иванова Юра отнесся халатно, к вводу был не готов, так что Коробкина у него тут же отняли и отдали Валере Караваеву, тому самому артисту, который вместо меня заменил заболевшего Гришу Гая в спектакле "Амадей".
Разумеется, здесь не было его капризного умысла, все вышло как-то само собой. И Юра, конечно, смутился: во имя Коробкина был проделан неблизкий путь до самого Хондо, но, если не ошибаюсь, за сорок дней исторических гастролей по Японии он на сцену так и не вышел, а если ошибаюсь, то вышел, но без имени и без слов.
Легко представить, как обиделся и рассердился Гога...
Еще в Ленинграде директор Суханов, стоя рядом с Товстоноговым, бросил мне реплику:
- Что, "пристегнули" вас к Демичу?
Я переспросил:
- К Демичу?..
- Разве вам не сказали?..
- Нет... Или я прозевал...
- Скажут, - успокоил меня директор.
Гога мгновенно отреагировал:
- Слава Богу, что не меня... Если бы меня к нему "пристегнули", я бы испортил все отношения.
Смысл реплики, в общем, понятен и, если подумать, не обиден: отношения все-таки хороши, но их не хотят подвергать лишнему испытанию.
Однако тут как на грех Юра "загудел" и подвел Гогу, не говоря уже о покойном Мише Иванове и гоголевском Степане Коробкине.
Родился Юра на Колыме, где с тридцать седьмого по пятьдесят седьмой год отбывал свой срок его отец, прекрасный актер Александр Иванович Демич. По доносу артиста-парторга, имени которого я не знаю, Александра Ивановича взяли в Москве прямо из Ермоловского театра, и первые восемь лет в магаданских рудниках он видел одно черное небо. Однажды был почти мертв и оказался в мертвецкой, но очнулся, выполз и выжил, а позже попал в лагерь, где отбывала свой срок артистка Урусова из того же Ермоловского. Урусова оказалась здесь потому, что отказалась подписать донос того же парторга на того же Александра Ивановича Демича.
Из лагеря его стали привозить и приводить под конвоем в магаданский театр, где он играл главные роли, а знаменитый впоследствии Георгий Жженов был всего лишь "на выходах", а потом Демич-старший стал приходить на работу уже без конвоя.
Даже в шестьдесят лет Александр Иванович был необыкновенно силен и спортивен, легко делал сальто и был способен выстоять в любой драке. Известен случай, когда на него напали трое хулиганов, и Демич, как говорится, с пол-удара положил двоих, а третий убежал с криком: "Это я, Александр Иваныч, простите, не узнал!". После освобождения его снова звали в Москву, в театр имени Ермоловой, но Демич-старший отказался, потому что там все еще процветал упомянутый артист-парторг: Александр Иванович побоялся, что может его убить. Поэтому из Магадана он уехал сначала в Казань, а потом - в Самару, где Юра окончил студию при театре и сыграл свои первые роли. Туда, смотреть его Гамлета, Товстоногов откомандировал Дину Шварц.
Демич-младший легко вписался в труппу, но был нетерпелив, нервен и, видимо, донимал Мэтра открытыми требованиями. Однажды он в сердцах швырнул заявление об уходе, но после драматической сцены в кабинете Мастера, где, по словам Дины, Юра плакал, а Гога дрогнул и пообещал ему повышение зарплаты и звание, Демич-младший заявление забрал.
В тот момент артист Р. поставил себе в пример поведение артиста Д.: "Вот как надо биться за свое положение!". Но себя не переделаешь, и в трудных случаях Р. по-прежнему замыкался в себе и отдалялся от Гоги.
Что касается Юры, то иногда казалось, что ему просто нравится роль бесшабашного гуляки или беспутного гения, навеянная, может быть, отчасти образом любимого отца, отчасти рассказами о Паше Луспекаеве, хотя все, кто знал самого Пашу, эту роль оставляли за ним одним и ни в какие сравнения не входили.
У Юры Демича, судя по репликам той же Дины, были какие-то сильные покровители в Москве. Они и помогли ему переехать в столицу, когда на спектакле "Амадей", где Стржельчик играл Сальери, а Демич - Моцарта, разразился скандал и отношения с Гогой стали невосстановимы.
Оглядываясь на короткие и малозначащие разговоры с Юрой, на его роли и романы, возникавшие на наших глазах, я думаю не о грехе пьянства и женолюбия, а о какой-то внутренней трагедии, которой он не мог поделиться ни с кем.
Кроме Гамлета и Моцарта (Д. сыграл у Шеффера, а Р. - у Пушкина) позже возникло еще одно приближающее обстоятельство. Отец Юры, Александр Иванович, переехавший вслед за сыном из Самары в Ленинград, поменяв трехкомнатную квартиру на Волжской набережной на питерскую коммуналку, был похоронен на театральном участке Северного кладбища в Парголово в ближайшем соседстве с общим участком, где упокоились отец и мать артиста Р., тоже в свое время переехавшие в Питер вслед за своим сыном.
Утром того дня, когда должна была состояться токийская премьера "Ревизора", мы шли по какой-то скромной улице, и Владик Стржельчик рассказывал о приеме у посла, на котором были четверо: Гога, Кирилл, Лебедев и он. Стриж снова был не в духе, его возмущало и то, что похожий на японца Павлов не знал, на сколько дней мы приехали, и то, какую выпивку на приеме давали, и как подавалась эта выпивка, а особенно то, что четырех сувенирных ручек не хватило на четверых, и послу пришлось во второй раз посылать за ручками, после чего хватило уже на каждого.
Рассказы Владика о любой чепухе всегда были очень эмоциональны и зажигательны, потому что он был прирожденным артистом и должен был играть, играть, а "Амадея" не привезли, и за все сорок дней на островах у него были только "Мещане", два или три спектакля, черт знает что!.. Вот он и проигрывал в сердцах любую японскую ситуацию.