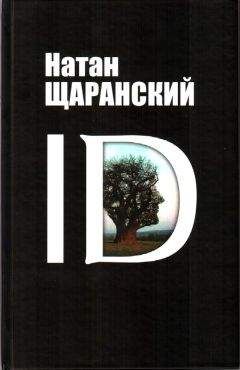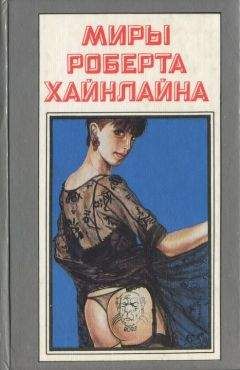Натан Щаранский - Не убоюсь зла
Речь Володина была так длинна, что запомнить ее целиком не представлялось возможным; я старался сохранить в памяти лишь самое важное для последующего анализа.
- Вот Лернер - это вам не Бейлина или Нудель, - продолжал он. -Профессор - человек ответственный, уже понял, в какое болото вы затащили евреев. Теперь думает, как их оттуда извлечь, пока не поздно. У него, как вам, наверное, известно, желания насолить советской власти было больше, чем у кого-либо другого, - ведь и вы из-за него сюда попали. Но теперь он дал задний ход, признал, что ошибался, что позволил западным спецслужбам использовать себя в преступных целях.
- Ну что ж, - прервал я его, - если так, устройте мне с Лернером очную ставку. Может, он действительно объяснит мне то, чего я сам до сих пор не понимаю.
Конечно же, заявление это было с моей стороны провокационным: мол, врете вы мне все; если бы Лернер покаялся, вы наверняка дали бы мне с ним встретиться.
Но Володин, после небольшой паузы, неожиданно сказал:
- Что ж, пожалуй, это можно устроить, - и обратился к Солонченко. -Александр Самойлович, согласуйте с теми, кто у нас работает с Лернером, дату очной ставки и поставьте в план.
Солонченко что-то записал себе в блокнот. Настроение у меня испортилось: значит, не блефует? Володин, похоже, угадал мою мысль:
- Скоро, скоро, Анатолий Борисович, вы встретитесь с профессором. Но к чему время терять? Все равно ведь придется каяться! Чем раньше вы это сделаете, тем лучше и для вас, и для других.
Я, недовольный собой, снова прервал его.
- Вы ведь однажды мне предсказывали, что я дольше Красина не продержусь, - а прошло уже три месяца. Надеюсь, ошибаетесь и на этот раз.
Володин долго молчал, а потом произнес в растяжку:
- Все геройствуете, геройствуете...
То же он сказал мне и во время предыдущей беседы, правда, тогда закончил ее такими словами: "Героев мы из Лефортово живыми не выпускаем". Сейчас - другими, бросив мне грубо и презрительно:
- Ничего, увидите пистолет, сразу укакаетесь.
Это детское слово показалось мне до смешного неуместным. Я хмыкнул, сразу почувствовав себя гораздо уверенней, чем раньше, и повернулся к Солонченко:
- Гражданин старший лейтенант, по-моему, гражданин полковник выдохся, исчерпал все свои аргументы. Я его больше не задерживаю.
Пока Солонченко сидел, не зная, как реагировать, Володин первым громко расхохотался, вскочил на ноги и, воскликнув :
- Ай да Анатолий Борисович, ай да юморист! - пружинистой спортивной походкой пошел к дверям. У порога он остановился и повернулся ко мне: - Так что, может, мне поговорить с Петренко, чтобы выпустил из карцера?
Тон его был исключительно дружеским, и я ответил ему в том же ключе:
- Да стоит ли вам, Виктор Иванович, доставлять Петренко такое удовольствие из-за каких-то двух ночей? Уж как-нибудь перебьемся. Володин еще раз приветливо улыбнулся, произнес:
- Если что надумаете - скажите Александру Самойловичу. Я сразу же к вам приду, - и исчез за дверью.
* * *
О чем меня допрашивали в последние два дня, проведенные мною в карцере, я забыл напрочь - очевидно, никаких сюрпризов беседы эти не содержали. Зато хорошо помню, что днем все свободное время я как заведенный шагал вокруг пенька, а ночью лежал без сна на холодной доске - и думал, думал, думал... Изолированный от внешнего мира, лишенный возможности связаться с близкими, до сих пор я старался вопреки всему оставаться сердцем и памятью среди дорогих мне людей, живущих в единой со мной системе ценностей. Сейчас я начал опасаться, что тот мир существует лишь в моем воображении, - вместо поддержки, которой я ожидал от него, он посылал мне сигнал бедствия.
Володин мог, конечно, врать, но я и сам чувствовал, что на воле что-то произошло, - ведь не мог же КГБ допрашивать Боба без всяких на то оснований! Слова Володина о моей ответственности за судьбы движения -демагогия и ханжество, но они задели меня. Я пытался убедить себя в том, что он лгал: если все для них идет так хорошо, зачем им я? Но на смену этой мысли приходила другая: а ведь верно - ни на Дину, ни на Иду логика КГБ впечатления не произведет. Если кто-то в принципе и способен на компромиссы, так это Александр Яковлевич. Он кибернетик, математик, сделал в науке немалую карьеру, уважает логику и привык доверять доводам рассудка; володинские аргументы, возможно, подействовали на него... Что ж, если Володин не блефует и будет очная ставка, на ней многое прояснится.
Интересно, вызывают ли на допросы других западных журналистов и дипломатов? Как они держатся? Впрочем, тут оснований для оптимизма немного: если даже такой человек как Боб дает показания, то чего ждать от остальных? Я думал о них, и память изобретательно подсовывала мне только те факты, которые доказывали, что ни на одного из них нельзя полностью положиться.
С Дэвидом Шиплером из "Нью-Йорк Тайме" мы были близки почти так же, как с Бобом, он показал себя верным и надежным товарищем. Но не сломается ли он в экстремальных обстоятельствах? Вспоминаю, как долго колебался однажды Дэвид, когда я попросил его об одной важной услуге.
Питер Оснос, корреспондент "Вашингтон Пост", знал меня очень хорошо, но и с Липавским был весьма близок. Статья в "Известиях" перепугала Питера настолько, что он позвонил мне и спросил: "Ведь это все, конечно, неправда?" Как будто и сам не понимал!
После статьи Липавского Прессел, который всегда безотказно принимал от нас документы для передачи на Запад, сказал мне, когда я попросил его о встрече: "Спрошу в посольстве, нет ли новых инструкций".
А что с западногерманским журналистом, испугавшимся взять интервью у трех советских немцев, которые так же, как и мы, боролись за свое право на репатриацию? Они тайно приехали в Москву в надежде передать на Запад списки желающих переселиться в ФРГ, и я договорился с этим корреспондентом о том, что он с ними встретится. По дороге на квартиру, где остановились его соплеменники, он заметил кагебешную машину, висевшую у нас на хвосте, и сказал: "Нас преследуют! Встретимся с ними в следующий раз". "Да ведь слежка ведется за мной, а не за вами, - попытался я успокоить корреспондента, - а эти люди проехали полстраны, чтобы с вами поговорить!" - но было заметно, что картинка в зеркальце заднего вида произвела на него большее впечатление, чем мои доводы. Короче, к немцам я пришел один, и, объясняя, что произошло, испытывал огромную неловкость. Надеюсь, они мне поверили.
КГБ мог записать в свой актив еще одно очко: ему удалось заронить в моей душе сомнения в порядочности людей, с которыми я был в тесном многолетнем контакте и чья дружба поддерживала меня все эти годы.
В математике, в теории игр, есть теорема об оптимальной стратегии, обеспечивающей минимальные потери. Такая стратегия оказывается возможной благодаря факту, доказанному в иной математической области - топологии -и гласящему: как бы ты ни заменял одну систему координат другой на сфере, всегда останется по меньшей мере одна общая для них неподвижная точка.
На протяжении всех лет заключения я искал свою собственную оптимальную стратегию, и она зависела от существования одной неподвижной точки. Системы координат моей жизни менялись неоднократно, и были моменты, когда я сомневался почти во всем. Архимеду нужна была неподвижная точка, чтобы перевернуть мир. Двенадцать лет я неизменно полагался на свою собственную точку опоры - Авиталь, даже тогда, когда наш земной шар бешено вращался, перебрасывая нас из одной ситуации в другую.
9. ИГРА
Одиночество и страх - два основных союзника КГБ в Лефортово. С первых же дней я не стал загонять страх вглубь, вывел его наружу, поставил под контроль - и он, похоже, больше не представлял для меня опасности. Усилием воли, мысли, души я пробил стену, отгораживающую мир КГБ, в котором я оказался, от моего, и жил, как и прежде, среди близких мне людей в общей для нас системе нравственных координат, а то, что тело мое было заперто в каменном мешке, значило в сравнении с этим не так уж и много. Но после беседы с Володиным я понял, что начинаю терять с таким трудом обретенную уверенность; мне не без успеха пытались внушить, что румяное спелое яблоко моего мира изъедено изнутри червями, и цель при этом у КГБ была одна: изолировать меня не только физически, но и духовно.
Как же противостоять им? Вот я уже отошел от своих принципов и подтвердил показания Тота. Пока никаких последствий это не имело. Но чем же все кончится, если я уже сейчас, через четыре месяца после ареста, начинаю колебаться, прислушиваться к аргументам кагебешников, теряю контроль над ситуацией? Ведь следствие может продлиться и год, и полтора...
Мысли мои бежали по кругу:" На воле что-то изменилось". - "Как это узнать?" - "А зачем узнавать, разве я в чем-то не прав, чтобы менять свою позицию?" - "Но что же все-таки могло там произойти?" - я никак не мог вырваться из этого замкнутого круга, что лишь усиливало мой страх.