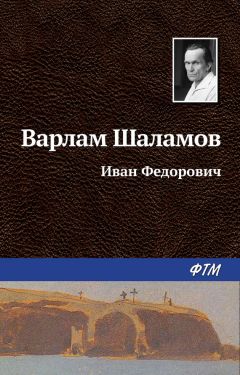Варлам Шаламов - Вишера
Много лет (может быть, сотен лет) арестанты, выходя из камеры на обыск, старались спрятать наиболее ценное – вроде половины лезвия безопасной бритвы – в камере, откуда их выводили на обыск, и, возвратившись, откапывали свои сокровища. Тюремная наука развивается как всякая наука. Нашлись передовые тюремщики, тюремщики-новаторы, которые применили простой и эффективный способ борьбы с этими подземными арестантскими кладами – просто, выводя всех жителей камеры на обыск, обратно их никогда не возвращали. Всё, что было скрыто, было безнадежно потеряно и могло обнаружиться лишь случайно. Поэтому люди из камеры 68, где я сидел после очередного обыска, вошли в камеру 69, и так далее.
Новое содержание обыска сделало ненужным внезапность, которая раньше считалась одним из условий удачи.
Напротив, тюрьма даже кокетничала, установив расписание обысков – раз в месяц в заранее назначенный день и час. Готовьтесь, арестанты, как умеете, а потом вас выведут в другой коридор и по одному пропустят через двух надзирателей, которые будут ломать спичечные коробки, срывать каблуки, крошить булки, отпарывать подкладку. Обыск занимает целый день для всей камеры – минут по тридцать – сорок на человека. Каждого раздевают догола, заглядывают в рот и в задний проход, заставляют снять протезы.
Всё, как в бане, только без воды – «сухая баня».
На Лубянке, 14, и на Лубянке, 2, надзиратели ходили по коридору в валенках. Громко разговаривать там было запрещено. «Ведущий» надзиратель щелкал пальцами, как кастаньетами, и на этот звук другой коридорный отвечал негромкими хлопками в ладоши, что означало: «дорога свободна, веди». В Бутырках водили гораздо веселее, чуть не бегом, встречались и надзиратели-женщины, в форме, конечно. В отличие от Лубянки здесь сигнал подавали, ударяя ключом о медную пряжку собственного пояса. Так же отвечал и коридорный.
На Лубянке вызов из камеры всегда был обставлен весьма драматически. Открывалась дверь, и на пороге не сразу появлялся человек в форме. Человек доставал из рукава бумажку, вглядывался в нее и спрашивал:
– Кто здесь на букву «Б» (или на букву «А»)? – Выслушав ответ, говорил: – Выходи!
В Бутырках эта процедура была гораздо проще. Коридорный просто кричал в камеру:
– Иванов! Инициал как? Выходи!
Вызовы были трех «видов»: прочесть и расписаться в извещении – чаще всего в приговоре. Это делалось у ближайшего окна в коридоре.
Или «с инициалом», но без вещей – чаще всего на допрос или на осмотр к врачу.
И, наконец, с вещами: или перевод, или отъезд. Теоретически могло быть и освобождение, но ведь НКВД не ошибается.
Первое впечатление не обмануло меня: тюрьма была набита битком, на 25 местах нашей камеры размещалось семьдесят – восемьдесят, редко шестьдесят человек – это все люди, попавшие любым путем в знаменитые картотеки НКВД. Это были «меченые», которых ныне ссылали без суда и следствия. Ибо следствия никакого не было, а были беседы, на которых обвинение удовлетворялось самыми поверхностными зацепками, намеками, путая знакомство по службе с «преступными связями». Результат записывался при помощи равнодушного следователя и подписывался. Никто не мог и предполагать, что за беглое знакомство с бывшим троцкистом – да и троцкистом ли? – можно выслать из Москвы, вообще как-то наказать. Оказалось, что наказывать намерены жестоко. В приговоре черным по белому – «с отбыванием срока на Колыме», в «спецуказаниях», вложенных в каждое личное дело: «тяжелые физические работы».
Но все были почему-то веселы, оживленны. Никто не выглядел недовольным. Отчасти это было следствием того нервного возбуждения, которое знакомо каждому побывавшему в тюрьме. Другая причина – невероятность осуждения невинного, невероятность, с которой нельзя примириться, в которую нельзя поверить, и третья – безвыходность. Всё равно ничего изменить нельзя. Четвертая причина: «на миру и смерть красна». Видя, что собственное «преступление» столь нелепо выдумано, каждый с доверием относился к судьбе товарища и рад и горд был ее разделить. Когда через двадцать лет я прочел стихи Ручьева и послушал речи Серебряковой о том, что их окружали в тюрьме только враги народа, а они, верные сыны партии, Ручьев и Серебрякова, вытерпели всё, веря в правду партии, – у меня опустились руки. Хуже, подлее такого растления не бывает. Вот здесь разница между порядочным человеком и подлецом. Когда подлеца сажают в тюрьму, невольно он думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных – за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек – он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении.
Может быть, и пятая причина действовала. Дело в том, отнюдь не похвальном свойстве русского характера. Русский человек всему радуется: дали десять лет «зря» – рад, хорошо, что не двадцать. Двадцать дали – снова рад, могли ведь и расстрелять. Дали пять лет – «детский срок», хорошо, что не десять. А два года получил – и вовсе счастлив.
Эта пятая причина – своеобразное понимание «наименьшего зла» – приводила вполне интеллигентных людей к суждению о начальниках: конечно, Иванов лучше – бьет не так больно. А Анисимов, бывший начальник прииска «Партизан» на Колыме, бьет – ха-ха-ха! – всегда рукавицами, а не кулаком, не палкой.
Шестая причина – скорее бы кончалась неопределенность, свойственная следствию. Пусть будет хуже, да поскорее к ясному концу. Казалось, что достаточно выйти из тюремных ворот – и всё исчезнет, как дурной сон: и конвой, и камера, и следователь. Эта шестая причина сделалась убедительной и уважительной чуть позже – тогда, когда были введены пытки.
Подписал под пытками! – ничего. Важно остаться в живых. Важно пережить Сталина. В этом была логика, и сотни тысяч «подписавших», обреченных на бесчисленные страдания, душевные и физические, умирали от холода, голода и побоев, в этой единственной надежде находили силу ждать и терпеть. И они – дотерпели до конца.
Пришло время и мне получить приговор (через пять с половиной месяцев следствия), и я был переведен в этапный корпус, в бывшую тюремную церковь. Здесь была удушающая жара, все ходили и лежали голыми, и под нарами были самые лучшие места.
Здесь я встретился с Сережей Кливанским. Сережа был любителем пошутить:
– Говорят, что перед тем, как нас вымораживать на Колыме, решили выпаривать.
С Сережей я учился десять лет назад в Московском университете. На комсомольском собрании Сережа выступил по китайскому вопросу. Этого оказалось достаточно, чтоб он был исключен из комсомола, а после окончания юридического факультета не нашел работы. С трудом Сережа устроился экономистом в Госплан, но после смерти Кирова Сережу стали выживать и из Госплана.
Кливанский был скрипач-любитель. Он поработал с преподавателем и поступил по конкурсу второй скрипкой в оперный театр Станиславского и Немировича. Но на скрипке ему дали играть лишь до 1937 года. Сережа работал со мной на прииске «Партизан», а в 1938 году весной был увезен на «Серпантинку» – нечто вроде колымского Освенцима.
В Бутырках встретился я с Германом Хохловым, литературным обозревателем «Известий» того времени. Мы читали друг другу кое-какие стихи – «Роландов Рог» Цветаевой и Ходасевича «Играю в карты, пью вино» и «К Машеньке» я запомнил с тех именно времен.
Отец Хохлова был эмигрантом, умер во Франции. Сам Хохлов, обладатель нансеновского паспорта, получил высшее образование в русском институте в Праге на стипендию чехословацкого правительства, которая давалась всем желающим учиться русским эмигрантам. Такая щедрость, по словам Хохлова, была вызвана тем, что чехи во время гражданской войны увезли два поезда с царским золотом, и только третий поезд был доведен благополучно до Москвы Михайловым, комиссаром «золотого поезда». Эту историю я слыхал и раньше. Хохлов говорил вполне уверенно.
Через советское посольство Хохлов вернулся на родину, получил советский паспорт и работу в «Известиях». Статьи его о стихах мне приходилось читать.
В конце тридцать шестого года Хохлов и все другие бывшие эмигранты – экономиста казака Улитина я тоже знал по тюрьме, по 68-й камере – были арестованы и обвинены в шпионаже.
– Мы думали, что нас арестуют, что придется пробыть какое-то время в ссылке, но концентрационный лагерь! Этого мы не ждали. – Хохлов протирал очки, надевал их, снова снимал. – Черт с ним со всем! Давайте читать стихи!
Здесь был Полторак – чемпион Европы по плаванию (он умер на «Партизане» в 1938 году), юноша Борисов – тоже известный пловец того времени.
В «этапке» сидели мы, помню, недолго. Начали «выкликать» и на автобусах перевозить на «Красную Пресню», на окружную дорогу, и грузить прямо в товарный поезд, где в вагонах-теплушках были нары, на оконцах решетки, и – по 36 человек в вагоне – мы двинулись в полуторамесячное путешествие к Владивостоку. Колыма приближалась.