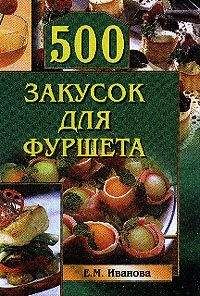Андрей Соболь - Человек за бортом
А за каблучками проворными сапоги тяжелые, но не менее быстрые, а за сумочкой куртка меховая, и поодаль еще тень одна, в обмотках, и еще третья, на соседнем тротуаре, будто сама по себе, но по линии одной с сапогами и обмотками.
И куда каблучки, туда и обмотки, куртка и спутник третий, а за дверью с плакатом «уполномоченный» не гаснет сигара в белопенных зубах Виктора Юрьевича, и кружок огненный видит сквозь пепел и переулки арбатские и Сизову 1-ю, ученицу Хабалова, и шесть глаз мужских, по линии одной, к цели одной — в вечер дождливый, в вечер арбатский.
Трудно без спичек по лестницам крутым, скользким заветную дверь найти — воистину ход в царствие небесное с земли грешной, с Арбата холодного, голодного, мокрого.
Но чует любовь верный путь — даже когда глухо молчат близнецы-двери и все звонки попорчены.
— Мне… я к Петросьян…
Сорвался голос (совсем как на репетиции неудачной, 126-й).
И ведут, ведут Валю Сизову к Петросьяну коридором, мимо сундуков, корзин, коридором влево, вправо, и на стук идет из глубины кто-то высокий, из темени к свету.
И на свету видение непостижимое, и на свету, по коридору, по сундукам, по корзинам, по Денежному, по Арбату крик исступленный:
— Коля-я-я!..
А за криком не слышно, как стучат в дверь неторопливо, но верно. Настойчиво: куда каблучки — туда и сапоги, и куртка меховая, да и третья тень, что как будто сама по себе.
Мокнет Арбат.
Несется по лужам коричневый автомобиль, шипит сирена, шипом кроет все Власьевские, Никольские, а в каретке, за стеклами выпуклыми (все выпукло, все видать, весь Арбат виден), говорит Виктор Юрьевич Треч соседу своему поникшему, в комок сжавшемуся:
— Дорогой полковник, не будьте бабой. Жаль, конечно, Ромейку, мальчик недурственный, но, милый мой, зато ход какой ловкий. В самую цитадель проберусь…
И летят из-под шин черные брызги и коричневой меткой метят зазевавшихся.
Москва — Красково, сентябрь 1922.
Собачья площадка
Когда-то особнячок был на виду, но в 1911-м пятиэтажный — доходный! — рыжий дом пролез вперед, кирпичный мужлан вогнал деревянного старичка в глубь двора, нагло, не стесняясь. Никакого почтения к прошлому, а помнил особнячок севастопольскою кампанию, у себя в зальце с белыми колонками принимал Масальских, Щербатовых, Волконских, и еще до сих пор у крайнего овального окна стоит кресло, в котором приезжий заграничный гость, великан с серебристой бородой, рассказывал о прекрасном голосе приятельницы своей Виардо.
А в 1919-м оказалось, что на счастье это — вот уж не знаешь, где найдешь и где потеряешь, — не уплотнили, ореховою шифоньерку с замысловатыми тайными ящичками не приспособили для канцелярии Оккмы (в Оккме старший сын бывшего прокурора, Василий) или для хранения дел Упшосса — в Упшоссе дочь Валентина регистраторшей.
Хорошо, когда в глубь двора, на задворки — и турецкая оттоманка осталась.
И дни и ночи проводит на ней старый прокурор Анатолий Федорович Башилов — Златоуст московский; еще в 1917-м по виду хоть под венец или на два-три тура вальса в Дворянском, а в 1919-м пополам перегнувшийся, с губой отвислой и дрожью в коленных чашечках.
Оттоманка — и кабинет, и столовая, и спальня; все вместе, все на оттоманке: тарелка с селедочным хвостом, картуз с махоркой, желтая обложка «Исторического Вестника» и пальто бурое, с заплатами на локтях. А портьеры, фарфор, серебро еще в начале девятнадцатого уплывают на Сухаревку, Боровиковского уносят, шахматы китайские.
В марте еще острит Василий, теперешний начканц Оккмы:
— Я моль: съел фрак, теперь ем шлафрок.
И кричит с оттоманки старый прокурор:
— Освободи меня от этих мерзостных советских анекдотов. — А уж в декабре 1919-го и кричать перестал.
В ноябре 19-го около оттоманки два градуса ниже нуля. И тихонечко с крылечка сходит второй сын, Коля. Ему пятнадцать лет, в карманах «Ира», «Ява» и шведские спички. Анна Владимировна до ворот провожает, в калитке крестит Колю, за воротами Собачья площадка в сугробах, узкогрудый Коля посреди, как заблудившаяся собачонка, — и стремглав бежит Анна Владимировна обратно:
— Господи! Господи! — Но должен же Реомюр подняться.
Упорен Реомюр: поднявшись в среду, в пятницу опять падает.
«Иру» сменяют пирожки, пирожки — ирис кромский, а Собачьей площадке ни то ни другое не по нутру: не берет, не ест, только снегом скрипит. По ночам на углу Трубниковского, на углу Дурновского, Спасо-Песковского воют псы — спать не дают старому прокурору. Кто знает, чьи они: бездомные, или хозяйские, но без кормежки? — и ночью оттоманка — пытка, пытка под всем барахлом, что собирает в дому Анна Владимировна и укрывает.
Днем — другая пытка: на буржуйку Анна Владимировна ставит два утюга и на утюги горячие льет воду, чтоб Реомюр подпрыгнул: жестяно скрежещет печурка, по утюгам прыгают шарики, кружатся шибко, и бьет пар. Уже минут через десять пахнет баней.
— Убери, убери! — молит прокурор. — Лучше мерзнуть собакой, чем эти сандуновские.
Анна Владимировна бросается к утюгам, тащит, обжигая пальцы, и в белой зальце, прижавшись к колонке, в белом зальце тихо стонет, сама белая.
Все белым-бело: зальца, лицо, окна, Собачья площадка, Москва, Скарятинские, Кречениковские, Борисоглебские…
Что губит Колю — «Ява» ли, ирис ли, или смоленские сугробы — кто знает и кто сможет поведать? Но Колька (уже не Коля) погублен навеки: только ночевать приходит.
— Пороть! Пороть! — мечется прокурор по оттоманке.
А оттоманка хихикает измочаленными пружинами: знает старушенция, что насчет порки надо надолго воздержаться.
Надолго ли? Надолго, уверяет Колька, комсомолец городского района, и, пристегнув к выцветшей гимназической фуражке красную звезду, одним взлетом берет Собачью площадку и исчезает навсегда в морозном синеватом тумане.
Тра-та-та… Тра-та-та… — где-то бьют барабаны, хрипит старый прокурор, на отвислой губе, как водяные шарики по утюгам, слюна, проклятия, а красные знамена ширятся по Москве и, заставы раздвинув, бутырские, семеновские, рогожские, ползут на Урал, к Перекопу, на хребет Хинганский, к кубанским степям.
А в Оккме сосед по столу Василия — Максимилиан Казимирович Войдак — холеными пальцами перебирает бумаги, на серой папке отполированные ногти, розовые — кусочки ветчины елисеевской — привет тысяча девятьсот пятнадцатого, а такой же, как Василий, партийный — П. П. П., партия прогрессивного паралича, бывший помощник присяжного поверенного.
И только: ни спец, ни коллегиальный член, а маникюр, крахмальный воротничок, правда, лишь краешком над тугим забориком безукоризненного френча, в вощеной бумаге, к двенадцатому часу, ломтики семги на белом хлебе, яйца, плиточка шоколадная — аккуратный пакетик, опоясанный шнурком.
Войдак, Максимилиан Казимирович, П. П. П., желтые высокие сапожки на двадцати двух пуговицах, папиросы «Асти», белоснежный носовой платок с хрустом, с духами — чуть ли не Коти — фантасмагория, сказка Шехеразады, тысяча и одна ночь, двадцать две пуговки — и однажды:
— Башилов? Сынок Анатолия Федоровича?
«Сынок». И губы в улыбку, мягкая ладонь, рукопожатие, точно в фойе зоновской оперетки, а за сим ужин в Литературном на Большой Дмитровке, за столиком под портретом Шаляпина, по соседству с профессором Баженовым, с балериной из Большого — улыбочка, улыбочка и взгляд изучающий.
— Как же… Как же… Знавал, имел удовольствие… Красивый был старик.
И взгляд успокоился: нащупал, ковырнул, определил и нашел. «Знавал», «имел» — и сказал в свое время:
— Предрассудки. Надо кормиться, дорогой мой. Надо самоопределиться, надо самому себе ответить: как мы будем кушать, что мы будем пить, чем мы будем печечку топить. Вобла?
— Вобла.
— Сакс ликвидирован?
— Давным-давно.
— И утюги на печурке?
— Два ниже нуля.
— Уплотнение до печенки?
— Нет: не тронули.
— Коллега, коллега… — сокрушается вощеный, как бумага из под семги на завтрак, пробор. Сокрушаются бритые, с синим глянцем щеки.
— Как это глупо и… безобразно. Сущий клад, вы с санками за картошкой… Золотоносная жила…
И назавтра в белой зальце гость — первый гость за полтора года — Максимилиан Казимирович Войдак в тургеневском кресле. Войдак в восторге от залы, от колонок и больше всего, паче всего от брандмауэра рыжего, который надежно заслонил особнячок и, припрятав его, сам вылез на Собачью площадку.
Так и надо: к комиссарам — пятью этажами с разными хозами, комами, маскировка — la guerre comme a la guerre, прикрытие, а в глубине клад, золотоносный рудник.
Предварительно… да все очень несложно: побольше тепла — не «буржуйку», упаси боже, а по-московски, по-московски старую добротную голландку, — два круглых стола меж колонок, не мешало бы со скатертями такими, где ворсинки, — легче и приятнее карты брать, — третий, маленький, сбоку, с альбомами, не мешало бы с семейными карточками, раз были в семье генералы, сенаторы и посольские, четвертый с закусками, с самоваром — и десять процентов с каждого банка.