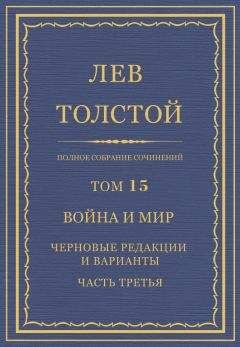Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая
Pierre оглядывался, тяжело дыша, и волнение его еще более усиливалось тем, что вокруг себя на лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров — всех без исключения он читал больший испуг, ужас и борьбу, чем на своем лице.
«Да кто же это делает наконец? — думал Pierre. — Даже и Даву, и тот, я видел, пожалел меня и эти все страдают так же, как и я».
— Tirailleurs du 86-me, en avant![804] — прокричал кто-то. Повели 5-го. Это был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и закричал диким голосом, но его схватили за руки, и он вдруг замолк. Он[805] как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что сказал ему охвативший его ужас, что невозможно, чтобы его убили. Он пошел так же, как и другие, подстреленным зверем оглядываясь вокруг себя[806] блестящими глазами. Pierre уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом 5-м убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот 5-й казался спокоен,[807] неся в руке шапку, запахивая халат, шагая ровно, и только глядел — спрашивая. Когда стали ему завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, видно резал ему, потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и неловко ему было, так он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Pierre[808] всё так же пожирал его глазами, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, после команды выстрелы 12 ружей, но никто, как после он узнал, ни он сам не слыхали ни малейшего звука от выстрела, видели только, как опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в 2-х местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, повис. Кто-то крикнул, подбежали к нему бледные лица. У одного тряслась челюсть, когда он его отвязывал, и потащили его страшно, неловко, торопливо за столб и стали сталкивать в яму, как преступники, скрывающие следы своего преступления. Pierre заглянул в яму и видел, что фабричный лежал там колени кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно и равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на это плечо. Часовой сердито, злобно и болезненно крикнул на Pierr’а, чтоб он вернулся. Послышались шаги уходивших. 12 человек стрелков[809] примыкали к ним бегом в то время, как роты проходили. Уже присоединились к своим местам, но один молодой, белокурый солдат, стрелок в кивере, свалившемся назад, бессильно спустив ружье, с разинутым ртом и ужасом раскрытыми глазами стоял еще против ямы, с того места, с которого он стрелял, и, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтоб поддержать свое падающее тело. Он бы упал, ежели бы caporal[810] не выбежал из рядов и, не схватив его за плечо, не втащил в роту.
Все стали расходиться с опущенными головами и пристыженными лицами. — Ça leur apprendra à incendier,[811] — сказал кто-то, но Pierre видел, что он сказал это только так, чтоб похрабриться, но что он точно так же, как другие, был ужаснут и огорчен, и пристыжен тем, что было сделано.[812]
С этого дня Pierr’а содержали в плену. Сначала ему было дано особое помещение и его хорошо кормили, но потом в конце сентября его перевели в общий балаган и, видимо, про него забыли.
Тут в общем балагане Pierre роздал другим все свои вещи и сапоги и[813] жил, ожидая спасения, в том положении, в котором и находился теперь, 1-го октября. Ничего особенного Pierre не делал здесь, но невольно сделалось между всеми пленными, что, как только кому-нибудь было плохо, как только все хотели предпринять что-нибудь, все обращались к Pierr’у. Кроме того, что Pierre говорил по-французски и по-немецки (были караулы и баварские), кроме того, что он был ужасно силен, кроме того, что он, — никто не знал почему, ни пленные, ни сам он, ни французы, — пользовался большим уважением даже от французов; его звали le grand chevelu.[814] Не было человека из его товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому он помог работать, тому отдал платье, того развеселил, за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство состояло в том, что он всегда был ровен и весел.
Не дострогав еще свою палочку, Pierre лег в свой угол и задремал. Только что он задремал, как за дверью послышался голос:
— Un grand gaillard. Nous l’appelons le grand chevelu, ça doit être votre homme, capitain.[815]
— Voyons faites voir, caporal,[816] — сказал нежный женский голос. И, нагибаясь, вошел капрал и офицер, маленький красавчик брюнет с прелестными, полузакрытыми, меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Pierr’а. Он узнал о плене и положении Pierr’а и, наконец, добрался до него. У Пончини был сверток, который нес солдат. Пончини подошел,[817] оглядывая пленных, к Pierr’у и, тяжело вздохнув, кивнул головой капралу и стал будить Pierr’а. Как только Pierre проснулся, выражение нежного сострадания, бывшее на лице Пончини, вдруг исчезло, он, видимо, боялся этим оскорбить его. Он весело обнял его и поцеловал.
— Enfin je vous retrouve, mon cher Pilade,[818] — сказал он.
— Bravo! — закричал Pierre, вскакивая и, взяв под руку Пончини, с тем самоуверенным приемом, с которым хаживал по балам, стал ходить с ним по комнатам.
— Ну, как не дать мне знать? — упрекал Пончини. — Это ужасно, — положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, я искал. Где, что вы делали?
Pierre весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву и расстреляние, на котором он присутствовал. Пончини бледнел, слушая его. И останавливался, жал его руку и целовал его, как женщина или как красавец, которым он и был и который знал, что поцелуй его всегда награда.
— Но надо это кончить, — говорил он. — Это ужасно. — Пончини посмотрел на его босые ноги.
Pierre улыбнулся.
— Ежели я останусь жив, — поверьте, что это время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей. И вас бы я не знал, мой милый друг, — сказал он, трепля его по плечу.
— Надо вашу силу характера, чтобы так переносить всё это, — говорил Пончини, всё поглядывая на босые ноги и на узел, который он сложил.
— Я слышал, что вы — в ужасном положении, но не думал, что до такой степени... Мы поговорим, но вот что...
Пончини, смутившись, взглянул на узел и замолчал. Pierre понял его и улыбнулся, но продолжал о другом.
— Рано иль поздно кончится так или иначе война, а 2 — 3 месяца в сравнении с жизнью...[819] Можете ли вы мне что сказать о ходе дела, о мире?
— Да, нет — лучше я ничего не скажу вам, но вот мои планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении, quoi que vous avez très bonne mine. Vous êtes un homme superbe. Et je voudrais que vous puissiez être vu dans cet état par celle....[820] Но вот что... — и Пончини опять взглянул на узел, замолчал. Pierre понял его и, схватив снизу за руку и потянув, сказал:
— Давайте, давайте ваш узел благодетельный. Мне не стыдно принять от вас сапоги после того, как я не знаю, кто взял от меня, в моих домах, по крайней мере на 8 м[иллионов] франков, — не мог удержаться, чтобы не сказать, но добродушно веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее показаться упреком французам.
— Одно только, что вы видите, — сказал он, обращая внимание Пончини на жадные глаза пленных, которые были устремлены на развязываемый узел, из которого виднелись хлебы, ветчина, и сапоги, и платье. — Надо будет разделить avec mes compagnons d’infortune et comme je suis le plus robuste de la société j’y ai moins droit que les autres,[821] — сказал он, не без тщеславного удовольствия, видя восторженное удивление на лице меланхолического, доброго, милого Пончини. Чтобы не мешал вопрос узла разговору,[822] которым дорожили оба, Pierre роздал содержание узла товарищам, и оставив себе два белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же стал есть, и пошел с Пончини на[823] поле ходить перед балаганом.
План Пончини состоял в следующем:[824] Pierre должен был объявить свое имя и звание, и тогда не только он будет освобожден, но Пончини брался за то, что Наполеон сам пожелает его видеть и, весьма вероятно, отправит его с письмом в Петербург. Как это и было..... — Но, заметив, что он говорит лишнее, Пончини только просил Pierr’а согласиться.
— Не портите мне всего моего прошедшего, — сказал Pierre.— Я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не сделаю.
— Тогда надо другое средство; я похлопочу, но я боюсь, что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, что вы оставите и себе, что вам нужно.
— Merci! Ну что к[няжн]а[?]
— Совершенно здорова и спокойна...
— Ах, mon cher,[825] что за ужасная вещь — война, что за бессмысленная, злая вещь.