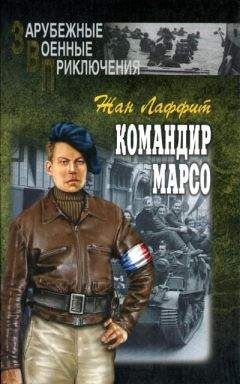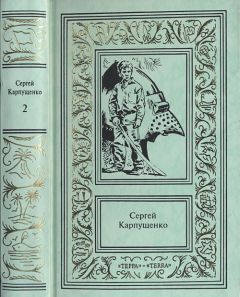Сергей Залыгин - Комиссия
— Нет, мужики, так плюваться на разные государства всё ж таки не годится! — заметил Устинов. — Не годится, я знаю!
— Ну а ей-то што, Англии-то, когда Игнатий против ее? — спросил Половинкин. — Ей, поди-ка, энто ведь всё одно? Ты плюешься, Игнашка, а ей всё одно! Плюйся, Игнатий!
Калашников тоже сказал:
— Как раз надо наоборот, Игнатий, надо глядеть, где и как сделано разумно, и брать хотя бы и чужеземное разумение для собственной жизни. Иначе нельзя. Правда, Половинкин?
— А тут я скажу — не вовсе правда! — растопырил волосатые пальцы Половинкин. — Ну, што она — твоя кооперация? Она и снаружи и снутри в синяках ходит: снаружи ее бьют богатые буржуи, а снутри в ей самой оне же заводятся и подминают рядовых членов под себя. Хотя взять и нашу лебяжинскую потребиловку и маслоделку — разве не так было?
— И так было, и по-другому! — загорячился Калашников. — Сколь бедняков она спасла от разорения? И помогла им? И сколь сделала среди нас, лебяжинских, человеческого товарищества?! Значит, то же самое: хорошее надо брать для жизни, худое — отбрасывать, и дело народа пойдет! И еще как пойдет-то! Народ — он же великий! Он всё может, до всего дойдет, ему надо только путь-дорогу хорошо определить!
— Верно, мужики, — снова вступилась Зинаида, — вот же люди сделали в агличанском городе хотя какую-то, а правду?! Может, и вы в своей Комиссии тоже сделаете ее сколь-нибудь? Так охота правды — жизни бы за ее не пожалела! Как бы знать, где она находится, — отнесла бы туда свою жизнь: нате, берите ее всю, мне и взамен ничего не надо, не нуждаюсь! А то ведь как: где война и убийство, так знают все, а где правда — не знает никто! И Зинаида вгляделась в Устинова и громко так, упрямо спросила его: — Так ты кого из святых знаешь, Устинов? Чье житие? Когда ты говоришь, что оне все ж таки были на свете, святые, — кого ты из них знаешь?
— Да никого я не знаю хорошо-то, — смутился Устинов. — Спрашивай вот Калашникова — он в церкви, было время, прислуживал.
— А кого-нибудь? Всё ж таки? — не унималась Зинаида.
— Ну, про Алексея вспоминаю. Читано было мною про божьего человека.
— Вот и рассказывай — почему Алексей из простого в божьего человека сделался?
— Отрешился от мира.
— Как отрешился-то?
— Жил у богатых родителей, в довольстве и сытости. Родители его поженили. А в ту ночь, как бы ему с молодой женой остаться на ложе, он взял да и ушел из дому. В нищие.
— Ой, дак он же, значит, и не любил невесту-то? И даже ненавидел?! Этак-то с ненависти только и можно сделать!
— Нет, это он ради святости.
— Ну какая же в том святость? Ну и не женился бы, и не давал бы невесте согласия, а то у ей-то в ту ночь как на душе образовалось — он и не подумал? Ежели она-то его любила?
Устинов смешался, как будто и сам был в ответе за божьего человека, а Игнашка сказал строго:
— Ты слушай, Зинаида! Сама спрашиваешь и сама же отвечать не даешь. Дак што там далее-то происходило, Никола? Неужто ни за што ни про што и пропала для обоих та первая ночка?
— Дальше семнадцать годов пробыл Алексей в нищенстве и в скитаниях, после вернулся домой.
— Ну а родители как его приняли на порог? Либо померли уже? — снова спросила Зинаида. — Семнадцать годов не сказывался — мыслимое ли дело?!
— А он им и тут не сказался, родителям. Он поселился у их в ограде, в хлевушке, как нищий, и оттудова кажный день глядел на мать свою, которая по ему непрестанно убивалась, и на невесту тоже глядел, которая так и жила под покровом жениха своего и так же убивалась и рыдала, как ее свекровь со свекром.
— И долго ли так продолжалось? — спросила Зинаида.
— Снова семнадцать годов.
— Снова семнадцать? — совершенно уже изумилась Зинаида. — Да оне-то, святые-то, и не стыдно им так себя вести? Мать страдает, невеста убивается, а он поглядывает на их слезы семнадцать годов, и ничто ему?!
Тут послышались шаги, открылась дверь в горницу, и Кирилл Панкратов, со стружкой в светлой бородке, сказал из кухни:
— Зинаида! — сказал он строго. — Не разувай глаза-то на чужие слова! Шти-то готовые у тебя?
Кирилл, особенно при посторонних мужиках, показывал строгость к жене, но не всегда у него получалось. А нынче получилось: он, должно быть, сильно был голоден, с утра раннего строгал в мастерской.
Устинов, помолчав, сказал:
— Иди, иди, Зинаида! Когда так, я и после доскажу!
— А ты не жужжи! — рассердилась вдруг Зинаида на Устинова. — Уже и голоса вдруг нету у тебя, одно только жужжание! Начал говорить договаривай, за минуту со штями ничего не сделается! — И Зинаида встала с табуретки, но из горницы не ушла, а плечом прислонилась к печке. — Ну?! — А мужу она сделала знак рукой и тоже сказала: — Сейчас, Кирилл! Сейчас! Устинов молчал, и все в горнице тоже молчали, и тогда Зинаида еще раз обратилась к мужу: — Ну, и ты войди, Кирилл! Нет, ты только подумай, Киря: святой-то человек тридцать четыре года скрывался от родителей и невесты, мучил их разлукой и жил в ихнем же доме, только не сказывался! И невеста холодная была, до старости убивается по ему, а до себя самой ей и делов нету! Она же человек, женщина, и как она живое в себе убивает? И даже не обидится? Ну, Никола, дальше-то как?
Кирилл неловко протиснулся в горницу и встал рядом с женой у голландки.
Калашников сказал:
— Досказывай, когда так, Устинов! После-то как было?
— После-то угадали всё ж таки, кто он есть, тот нищий в хлевушке. Но тут он и помер. Как раз. Похоронили его почетно и возвели в святые. Вот как было.
— Странно мне! — громко вздохнула Зинаида.
— Чего особенного?! — отозвался на этот вздох Половинкин. — Им ведь, святым, как? Им ведь наоборот как нам, как хотя бы и мне. Для меня самое что ни на есть главное — жизнь прожить, а ему хотя бы и вовсе не родиться, и вовсе не жить, лишь бы об ём была да жила долгая память. Вот и всё!
— Всё одно странно! И не согласная я! Вот он сделал о себе святую память, и вот я молюся ему и вдруг за молитвой вспоминаю: «Да, боже ты мой, а при жизни-то, при жизни сколь же он сделал страдания людям? Родителям, невесте и еще, может, многим другим?»
— Так ведь вся она такая — святость, вся происходит от страдания. А от чего другого ей еще быть-то? Взяться-то? — вдруг спросил Кирилл, тихо так спросил и поглядел на жену. Зинаида пожала плечами:
— Как откудова взяться святости? Из добра! Пущай бы он, Алексей, божий человек, когда был богатый, помогал бы людям куском и учением, от себя отымал для других, и сам бы страдал — пущай! Но почто ему до зарезу нужно других-то в страдание вводить? Непонятно никак! Ведь тот же самый у его выходит разбой, что и у злодея! Вот злодей убил бы Алексея, и што? И сделал бы то же самое страдание его родителям и невесте, какое он для них сам сделал. Оне же, когда его потеряли, так и думали: злодеи сделали, разбойники убили нашего сынка и жениха!
— Святое дело — оно большое… — снова и еще тише сказал Кирилл. — Оно большое и очень даже искусное. А которое искусно и велико — то не бывает без мучения людям. Оно только через муки и через отрешение от жизни дается.
— Так ить для большого-то, для искусного — родиться надо! А другой родился, как все, и даже поглупее других, а всё одно берется за дело, куда больше себя, и вот уже первое, что у его выходит, — муки и страдание другим людям. Далее-то он сделать ужо не умеет, не может… Хотя бы и Алексей, божий человек? Да мне всё уже об нем понятно: он для большого-то не родился, а ему страсть как хотелося его! Он и надумал добиться своего, своей святости через муки родителей и невесты своей. Больше — ему в голову не пришло. Его бы на иконах-то надо рисовать с махонькой с такой головкой!
— Ну, уж ты скажешь, Зинаида! — удивился Половинкин.
— И скажу!
Кирилл резко подтолкнул Зинаиду в плечо, сказал ей как мог строго:
— Пойдем хлебать!
Панкратовы ушли, в горнице неловко стало. Половинкин сказал:
— Об правде слова, всё об ей. Всею-то ее кругом давно словами обговорили, а толку нету и нету!
— Правду молчком не сделаешь! — вздохнул Устинов.
— Нашей-то Комиссии — ей-то какое до правды дело?
— До нее, может, всем комиссиям на свете имеется дело? Всем, сколь их есть и еще будет! — ответил Устинов.
— А я не согласный! — снова и уже сердито возразил Половинкин. — Тут как дело-то? Вот ты, Калашников, а Устинов, дак и особенно, научились разговоры разговаривать! Может, и сами-то не понимаете, што к чему и зачем, а нам всё одно показываете свое умение. Выхваляетесь перед нами, что ли?
— Вот и правда, и так у нас в Комиссии и складывается, как Половинкин сказывает! — горячо подхватил Игнашка, и ветхие усики его запрыгали. Выкомуриваете из себя умников и трепетесь и трепетесь, не остановишь вас для дела! Калашников, дак тот аж про Англию! Как вроде аглицкий шпиён!
— Дак я вовсе не про ее! — стал оправдываться Калашников.