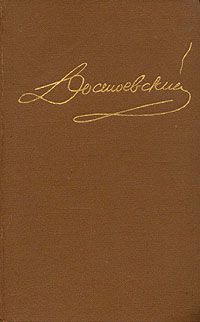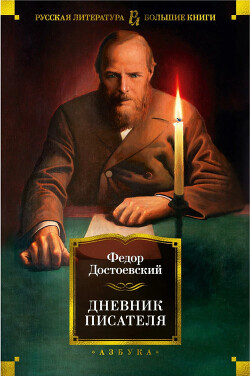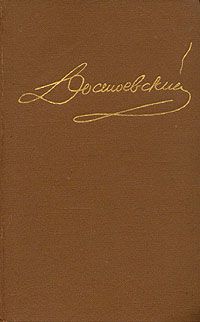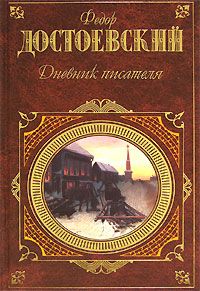Дневник писателя 1873. Статьи и очерки - Достоевский Федор Михайлович
Тут среда, тут fatum, эта несчастная не виновата, и вы понимаете это, но вот другой тип — самый полный в драме — тип развратного, испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за триста рублей и за бархатную поддевку, — это, о, это уже тип из виновных «пожертвованного» поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда: пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она, а с любовью, он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат, и знает, что такое неразврат; но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает сворый порядок семьи и обычая; он глуп и туп, это правда, но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как Матреша, в которой всё такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает, и не может понимать, что он уже не от «мира сего» и с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести и наутро является в отцовскую избу, на сцену отчаяния, в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит как в всемогущество; это — водка. С самой тупой, но верной ухваткой он перед всяким начинанием выставляет водку — горькую мужикам и сладкую бабам, уверенный, что все по его сделается и что водка все может. В нем, к полноте иронии, в изображении его, рядом с полным цинизмом уживается потребность прежних вежливых манер, исконной деревенской «учливости». Прибыв в село и еще не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посылает ей из кабака сладкой водки. Когда он и Матреша привлекают мать в кабак, чтоб на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасильничание, он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учтивостью». Нашего автора упрекали иные, читавшие первый акт, за слишком уж натуральный мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой натуральностию языка и мы недовольны; всё должно быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах по крайней мере, не ослабив ее характерности. Это «пыжалте, мамынька-с» не могло быть изменено: вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую пьющую старуху, свою «мамыньку» сынок уважает столько же, сколько свою подошву.
Вот трагические слова отца этой семьи, пьющего старика, про это «пожертвованное поколение»:
«Захар(выпивает стакан водки). Пьяницы! Вы теперь подумайте, други·сидит этта фабришный целую неделю за станом, ноги-то, руки-то занемеют, в голове словно туману напущено! словно шальные все! и виду-то челычьего-то нет! В хоромине-то духота, стены голые и не глядел бы! солнышко в ино место не заглянет! только и видишь его што по праздникам! Ну, други, придет этта праздник ты, дед, писание станешь читать, другой в поле хлеб поглядеть пойдет, аль в лес аль к пчелам, аль с суседями толковать земство, значит, аль сходка, аль о ценах хлебных скажи, куда фабришному то идтить? о чем ему говорить-то? у него всё отмеряно да взвешено! Разве о том что штрафы пишет незнамо за што, да провизию отпускает гнилую да за рублевый чай берет два с полтиной, за ворота не пущает, штоб провизию у него брали да штоб разврату боле было! Об эвтом разве! ну, значит одна и дорога в кабак! один разговор-от о водке да распутстве.
Василий. Это точно!
3ахар. Вы подумайте, други, ведь тоже отдохнуть хоцца! тоже молодость! соберется хоровод, песни, смех хожалый разгонит! ну все гурьбой и в кабак да трахтир! И пойдут толки о девках да кто кого перепьет! И глянь-ка, што творится на фабриках то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку хлыщут что воду! на фабрике-то матершинничество, ахальничество стон стоит ад кромешный! дети от больших займаются! На пагубу ребят своих мы туда отдаем! Есть ли хоша одна девка без распутства, один парень не пьяница на фабриках-то?».
Но самая характерная из всех сцен этой народной драмы — это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка — это всё, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его, — и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись — пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми.
На этой сходке происходит возмутительная неправда: вопреки обычаю и закону единственного сына вдовы (Ивана, героя драмы) отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников *, и, что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычаю, делается за вино, за деньги. Тут даже и не подкуп; подкуп бы еще ничего; подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет, тут всё почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: «С угарцем-то будет лучше судить», — зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вы чувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого захочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формалистики прямо и перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека; все «ослабели»; ожирели сердца; всем хочется сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкою, но как на устарелую дичь, именно как на глупую, ненужную форму, которая и держится-то всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых вдобавок всегда купить можно. Так стоит и так ведет себя на сходке Степан, тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Ваньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкина приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, «вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала, а что если приговорят по его, то за это его степенство, купец, много штрафов народу простит». Дело, разумеется, разрешается в пользу купца, и Ваньку отдают в солдаты.
Тут на сходке (весьма разнообразной лицами и характерами) являются два почти трагические лица; один — Наум Егоров, старик, уже двадцать лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч — старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе; нет, чувством он возвысился до понятия самого широкого: приговор хотя бы только сходки села его для него как бы часть приговора всей крестянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. Неправда, злодейства, конечно, бывали и на прежних сходках, двадцать лет назад; но неуважения к сходке самих членов ее, неуважения к собственному делу не было, по крайней мере не возводимо было в принцип. Делали подлое, но знали, что делают подлое, а что есть хорошее; теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его. Но все-таки Наум, этот своего рода последний могикан *, продолжает верить в правду мирскую во что бы ни стало, чуть не насильно, — и в этом трагизм его. Он формалист; чувствуя, что содержание ускользает, он стоит тем крепче за форму. Видя, что мир пьян, он попросил было отложить сходку, но когда закричали, что с «угарцем лучше судить», он покоряется: «Мир решил, против мира нельзя идти». Он слишком хорошо и с страданием понимает про себя, что в сущности наемный их писаришка Леванид Игнатьич значит всё и что купцов приказчик как прикажет сходке решить, так она и решит. Но старик всё еще, пока время, хоть насильно да обманывает себя; он прогоняет Леванида с первого места и, как председатель сходки, читает приказчику наставление за невежливые слова его против мира.