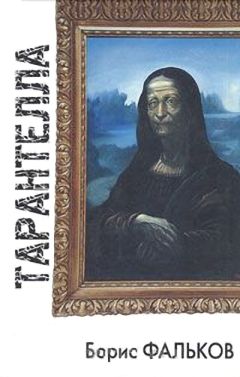Борис Фальков - Ёлка для Ба
В этот миг я, естественно - в черкесске с газырями, декламировал "Памятник нерукотворный" под, что естественно тоже, "Свадебный марш" Мендельсона Ба... не Бартольди, а просто Ба. Нерукотворность пушкинского памятника как нельзя лучше оттенила явную рукотворность нашего памятника уходящему году. После правильно выдержанной паузы все кинулись по своим делам, словно дела эти были расписаны каждому заранее: Ди - спасать придавленного, Ю - тушить возможный пожар, многие из детей двинулись по домам, чтобы по дороге как следует подумав, вернуться к торту. Ди не удалось извлечь из-под обвала виновного, его там уже не было. И он-то как раз и не подумал вернуться: так его и видели. Благодаря столь решительному поступку, его не смогли опознать как нелегала и, следовательно, обвинить в заранее спланированном саботаже. Он принял не по возрасту мудрое решение, выгодно обменяв свой кусок торта на покой душевный. А может - и физический, учитывая всё же похищенную конфету, а также возможный разговор моих родителей с его, и последующее беспримерное наказание.
Я же не был столь мудр, и однозначное отношение к случившемуся мне не давалось. С одной стороны мне было несомненно жаль моей ёлки, а с другой благодаря катастрофе прервалась пытка "Памятником". Понятно, что Ба испытала то же, ведь и для неё "Свадебный марш" был по существу пыткой. Разница между нами заключалась в том, что мои сожаления перевесили радости, а перевесив превратились в злобную обиду. И к ужасу всех взрослых, и к радости детей, я вспрыгнул на поверженную ёлку и стал в праведном гневе топтать её. Под моими подошвами захрустели остатки стеклянных игрушек, все эти изогнутые зеркальца, чашечки, отражающие в себе всё, в том числе и закаменевший профиль Ба, все лапки умирающего во второй раз дерева. С особой тщательностью я уничтожил сверкающий шпиль, в котором этот профиль отражался трижды, в трёх гранях, и, кажется, даже приговаривая: вот тебе, вот. Потом я снова утверждал, что имел в виду и топтал себя, только себя! Но на этот раз никто, не только одна уже Ба, мне не поверил. Ещё бы, я сам не верил себе.
Семейное собрание, состоявшееся сразу же после того, как разошлись гости, было посвящено одной теме: я и невропатолог. Оно длилось недолго, благодаря испытанному мною и Ба общему, объединившему нас пережитому. Возможно, ей представилось, что судилище проходит над нею самой, во всяком случае - к нужному моменту в её глазах сложился стальной с прозеленью оттенок, эдакий карточно-ёлочный домик на песке, с фаянсовыми тарелочками на стенке: ритуал, приглашённые чужие, они ведь могут разнести слухи по городу, потеря роли верховной жрицы, вероятный бунт домашних подданных. Дом подвергался опасности, песочное сооружение могло рассыпаться в считанные секунды. И в те же секунды, обманув ожидания многих - вместо многими желанного: пусть это будет мне урок на... - Ба вступилась за это будущее, каково бы оно ни было, и кому бы ни принадлежало. А согласно теме семейного собрания, оно очевидно принадлежало мне.
- Мне следовало бы помнить, - неторопливо выговорила Ба, - что Мендельсон не может вызывать у вас почтения. Вам подошёл бы цирковой марш. Ничего удивительного, по моему мнению, марши вообще порядочная...
Она чуточку замялась, но рядом был Ди.
- Дикость, - подсказал он.
- Дикость, - согласилась она и повернула ко мне свой вечный лик. - Поэтому завтра же мы с тобой начнём разучивать третий вальс Шопена.
И повернувшись к консилиуму:
- Ля минор.
Совещание сразу же закрылось. Несовместимость усиления занятий столь нервным делом с лечением у невропатолога была понятна всем, все испытали особую нервозность музыки на собственной шкуре. В который раз вечные духи дома вступили в противоборство с актуальной реальностью и победили, я был спасён. Но это была последняя ёлка, устроенная в нашем доме. И её, последнюю, после внезапной вторичной кончины вывезли поздним вечером следующего дня за Большой базар на свалку, и захоронили там вместе с остатками игрушек. Они были некогда страстью Ба, она собирала их тридцать лет, жертвуя многим. Среди них были и незабываемые, например, птица Феникс из переливавшегося разными цветами стекла, перья и крылышки которой крепились к туловищу проволочками, а когда птичку сажали на ветку прищепкой - трепетали и позванивали от каждого толчка или стука, любого звука, долетающего сюда из соседней комнаты или с улицы, и эта их работа не прекращалась ни на минуту, не прерывался даже и короткими паузами их аккомпанемент сменяющим друг друга дням и ночам. Игрушки занимали, каждая - своё, но и все вместе, определённое место в большой коллекции Ба, среди пудрениц и щёточек, фрагментов задуманных платьев, муфт с носовыми платочками, вееров, и теперь это место опустело. Они были бесспорно личной собственностью Ба, в общем-то ею самой. И когда их не стало, пустота обнаружилась не только в доме, а и в самой Ба.
Глава... а, какая угодно: я люблю тебя, Ба.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
И мы мчались, в сущности, все вместе: я и Жанна, следовательно, с нами и Ба. И навстречу нам, всё в том же, благословенном незабываемом порядке: площадь, присыпанная на этот раз мельчайшей белой пылью, булыжники, отполированные копытами и подошвами, ряды прилавков с торгующими бабами в платках, выгоревшие вагончики, бочка, раковинка и шапито. Всё как всегда. Только на моём затылке нежнейшая из ладоней - вместо тугого мехового живота, а вместо снисходительных уроков на будущее - в ушах сладкое пение пчёлки, уморительное щекотание голоска, легко проникающего в мозг:
- ... да ты что, какая кукла? Это Жора Устименко. Просто он ростом маленький, ну вот как ты. Разве ты кукла?
- Тогда он лилипут. А откуда лилипуты?
- Дурак, из Лилипутии, конечно. Свифта читал? Но ты не должен его так называть, или упаси Господи - карлик, следует говорить: маленький человек.
На нас оглядывались, я лопался от гордости. У неё на поводке, а она почти индуска - сари и третий глаз, значит, и я отчасти индус. Воображение подсказывало: под ногами у нас не мостовая, а сходни корабля, а над головой мачты, а ещё выше...
- Маленький, потому и любит свой шиколат.
- Опять дурак, он его ненавидит. Никогда не произноси при нём этого слова, он обидится.
- Как же я скажу ему, если он заперт в сундуке?
- Он не всегда там сидит. И я тебя с ним познакомлю. Всё это не значит, что ты не можешь есть шоколад. Я тебе куплю, после. А Жоре купим "Шахтёрские", это его страсть.
- Мой отец тоже их курит. И считает папиросы, наверное, от злости. А Жора считает? Ты не знаешь, а и я ведь плевать хотел на шиколат. Я совсем наоборот, люблю... обожаю кислое.
Нет, даже ей я не выдал тайны: вовремя прикусил язык. А жаль. Интересно, что бы из этого вышло?
- Ки-ислое... Значит, купим клюквы в сахаре. А твой отец не злой, просто он страдает, у него всегда болит нога.
- Я знаю, она у него не настоящая... А мотоцикл - настоящий?
- Ещё бы! Опять смотри: мотоциклиста зовут Назарий, и ты никогда не сокращай, а то ещё назовёшь его мотобоем. Это сходит с рук только Жоре, или его другу-негру.
- А негр - настоящий?
- Три дурака. Нет, крашеный... Конечно, настоящий. И опять же - никогда не говори "негр". Нужно говорить: чёрный человек. Только он сам может называть себя негром, ну и, опять же, Жора.
- Или ты, - не пропустил я. - А мне как его называть: эй, чёрный человек?
- Просто дядя... Ваня. Чего смеёшься, четыре раза дурак? Его зовут Ив, Ив Кемпбелл. А на афишах - Иван Кашпо-Белов, или Кампо-Бассо, или Кашпо-Басов, разные времена - разные имена... Только жизнь одна и та же, несладкая, по слухам - сплошная жуть. Я тебя со всеми познакомлю, только чур, быть умницей: дома об этом ни слова.
- Я дурак всего четыре раза, не пять, - сказал я, останавливаясь от обиды, и для верности мрачно добавляя: - Конечно ни слова, гроб. А что делает там Ася, только улыбается и всё?
- Пошли, пошли... улыбаться их работа.
И дальше чуточку грустно:
- Может, важнейшая работа. У них вся жизнь - работа. Вот и улыбаются всю жизнь.
Что-то дрогнуло во мне. Мой мрачный крепкий "гроб" враз стал весёленьким и мягоньким, вымятым в шутку из пластилина, перед этим траурным тройным ударом колокола: "работа". С тех пор всегда что-то внутри, да и весь мир вокруг меня вздрагивает, стоит загудеть этому колоколу. Вот так-так, и тигры, и улыбка, и мотоцикл, и выстрел, бочка, шиколат, кулибка - всё это работа? Всё это одно и то же, называется жизнь, а по слухам - сплошная жуть? Так-так.
Или не совсем так...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Из дальнего коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью подобные открытия неизбежны), что в зеркалах есть нечто жуткое.
Х. Л. Борхес
... если вспомнить, например, что слухи на этот раз оказались частично лживыми. Вместо тигров были медведи: медведица и два медвежонка. Конечно, Жанна знала об этом заранее, но за столом благоразумно замолчала столь важную деталь, способную разрушить самый хитроумный план. Хотя, казалось бы, какая разница? И клетки стоят на том же месте, и кормят их в то же время... Но благодаря этой уловке меня пронесло мимо рифа, столь неутомимого в своей жажде разрушений.