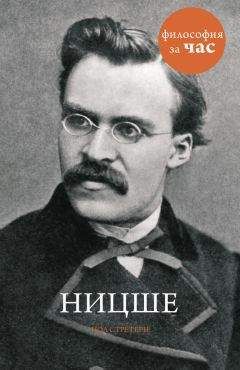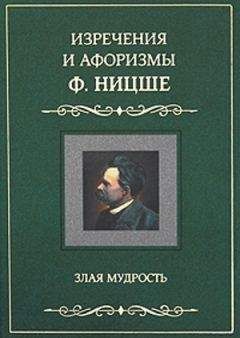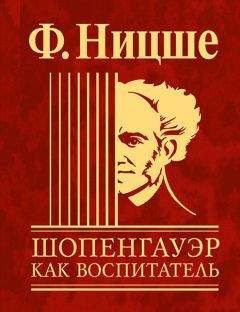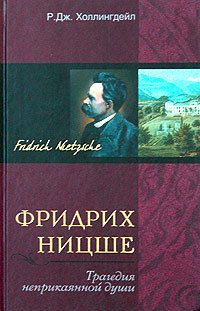Максим Горький - Том 24. Статьи, речи, приветствия 1907-1928
Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, — протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров.
Эта заметка вызвала протест со стороны довольно значительной группы литераторов; протест был напечатан в вечернем издании «Биржевых ведомостей» и сводился к обвинению меня в том, что я пытаюсь установить цензуру общества над свободой художника. Следующая моя заметка является ответом на протест литераторов.
Ещё о «карамазовщине»
Мой призыв к протесту против изображения «Бесов» и вообще романов Достоевского на сцене вызвал единодушный отклик со стороны господ литераторов, более или менее резко выразивших порицание мне. Один из сторонников Достоевского, господин Горнфельд, указал даже, что:
«Противники Горького перегнули палку в противоположную сторону: появились уже гаденькие слова о какой-то творимой им цензуре».
Слова действительно лишние н, на мой взгляд, весьма постыдные для тех, кто их придумал.
Но суть дела не в отношении ко мне лично того или другого лица, — это никому не интересно; суть в том, что все высказавшиеся против меня отрицают за обществом его право протестовать против тенденций и явлений, враждебных росту человечности в обществе.
Мнения, высказанные литераторами, слагаются предо мною так:
«Хотя Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников «зоологического национализма», который ныне душит нас; хотя он — хулитель Грановского. Белинского и враг вообще «Запада», трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он — ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, но, при всем этом, его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского да и вообще против всякого художника, какова бы ни была его проповедь».
Однако, когда в 1907 году театр Суворина поставил на сцене «Бесов», общество, в лице прогрессивной печати, протестовало против этой инсценировки, справедливо определив ее как прием политической борьбы.
Почему же то, что во грех Суворину, — Немировичу-Данченко во спасение? Почему общество может протестовать против ничтожной пьески «Контрабандисты», а против сильного и злого романа «Бесы» не может?
Почему ваш, господа, коллективный протест против моего мнения — не цензура, а мой призыв к протесту — призыв к цензуре?
Прошу понять, что я не себя защищаю, — я просто указываю, что общество имеет право протеста против проповеди того или иного художника, — имеет это право и пользовалось им.
Ваше отношение к вопросу мне неясно.
Возражения, брошенные мне, брошены под заголовком: «Горький против Достоевского», причем один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и ценю не менее почтенного литератора. Он очень громогласно объявил городу и миру о своем безграничном свободолюбии, но каждый раз, когда я слышу такие объявления, мне хочется спросить объявителя:
«А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?»
Ибо русское понимание «последней свободы» почти всегда скрывает за собою стремление от деяния к созерцанию, от культуры — к дикости и варварству.
Горький не против Достоевского, а против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене.
Я убежден, что одно дело — читать книги Достоевского, другое — видеть образы его на сцене да еще в таком талантливом исполнении, как это умеют показать артисты Художественного театра.
В книгах для внимательного читателя ясны и реакционные тенденции Достоевского и все его противоречия, все те страшные натяжки, которых никому другому не простили бы.
Если тринадцатилетний мальчик Красавин говорит, что «глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости», читатель вправе усомниться в бытии такого мальчика. Если мальчик заявляет: «Я их бью, а они меня обожают» и характеризует товарища: «Предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога», — читатель видит, что это — не мальчик, а Тамерлан или, по меньшей мере, околоточный надзиратель.
Когда четырнадцатилетняя девочка говорит: «Я хочу, чтоб меня кто-нибудь истерзал», «хочу зажечь дом», «хочу себя разрушить», «убью кого-нибудь», — читатель видит, что это правдоподобно, хотя и болезненно.
Но когда девочка эта рассказывает, как «жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене гвоздями», и добавляет: «Это хорошо. Я иногда думаю, что сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть», — здесь читатель видит, что девочку оклеветали: она не говорила, не могла сказать такой отвратительной гнусности. Тут, на горе наше, есть правда, но это — правда Салтычихи, Аракчеева, тюремных смотрителей, а не правда четырнадцатилетней девочки.
И когда на вопрос этой оклеветанной девочки: «Правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?» — благочестивый Алеша Карамазов отвечает: «Не знаю», — читатель понимает, что Алеша не мог так ответить; Алеша не может «не знать»; он — таков, каким написан, — просто не верит в эту позорную легенду, органически не может верить в нее, хотя и Карамазов.
Если же читателю будет доказано, что Алеша в юности действительно «не знал», пьют ли евреи кровь христиан, тогда читатель скажет, что Алеша — вовсе не «скромный герой», как его рекомендовал автор, а весьма заметная величина, жив до сего дня и подвизается на поприще цинизма под псевдонимом «В. Розанов».
Всматриваясь в словоблудие Ивана Карамазова, читатель видит, что это — Обломов, принявший нигилизм ради удобств плоти и по лени, и что его неприятие мира» — просто словесный бунт лентяя, а его утверждение, что человек — «дикое и злое животное», — дрянные слова злого человека.
Читатель видит также, что Иванове трактирное рассуждение о «ребеночке» — величайшая ложь и противное лицемерие, тотчас же обнаженное самим нигилистом в словах:
«Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних».
Ближний — это и есть ребенок, человек, который завтра унаследует после нас все доброе и злое, совершенное нами на земле, а если Иван не понимает, как можно любить его, — значит, все, что он говорит о жалости к «ребеночку». — сентиментальная ложь.
«Весь мир познания не стоит слёзок ребеночка», — говорит нигилист, но читатель знает, что это — тоже ложь. Познание есть деяние, направленное к уничтожению горьких слез и мучений человека, стремление к победе над страшным горем русской земли. Вообще, читая книги Достоевского, читатель может корректировать мысли его героев, отчего они значительно выигрывают в красоте, глубине и в человечности.
Когда же человеку показывают образы Достоевского со сиены, да еще в исключительно талантливом исполнении, — игра артистов, усиливая талант Достоевского, придает его образам особенную значительность и большую законченность.
Сцена переносит зрителя из области мысли, свободно допускающей спор. в область внушения, гипноза, в темную область эмоций и чувств, да еще особенных, «карамазовских», злорадно подчеркнутых и сгущенных. — на сцене зритель видит человека, созданного Достоевским по образу и подобию «дикого и злого животного».
Но человек — не таков, я знаю.
И вот, находя, что вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера, я уверен, что образы его на сцене театра, подчеркнутые игрою артистов, приобретают убедительность н завершенность большую, чем на страницах книг.
Я считаю это социально вредным, ибо человек — не «дикое и злое животное» и он гораздо проще, милее, чем его выдумывают российские мудрецы.
А протест общества против того или иного литератора одинаково полезен как для общества, которому пора сознать свои силы и свое право борьбы против всего, что ему враждебно, так и для личности.
Тот, кто достаточно силен верой в себя и в жизненность своих идей, перешагнет через все сопротивления, и общество душу его не умертвит.
Один из свободолюбивых литераторов, высмеивая мое мнение, между прочим, восклицает:
«Нет, вредной литературы не существует! Чем гениальнее произведение, тем больше его благотворное влияние, даже если гений и заблуждается».
Гениальные книги крайне редки, как это всем известно. Мы живем во дни великой бедности духовной, во дни печального разброда сил; наша текущая литература, посильно отражая процесс дробления русской души, не позволяет надеяться на то, что художник-гений уже скоро явится среди нас. А «вредная» литература, несомненно, существует, — автор приведенных выше строк сам неоднократно указывал на нее. Несомненно, что он не признает полезной повесть, в которой проповедуется, например, педерастия или сладостно описываются иные извращения полового чувства. Наверное, он не признает полезной книгу, в которой «художественно» восхвалялось бы предательство или «гениально» защищалась необходимость поголовного истребления турок.