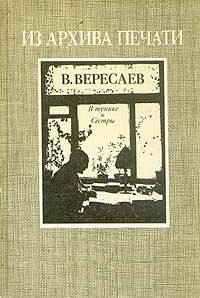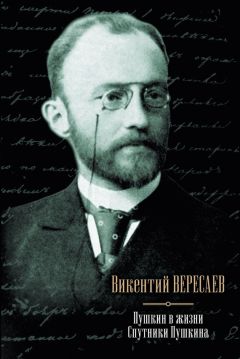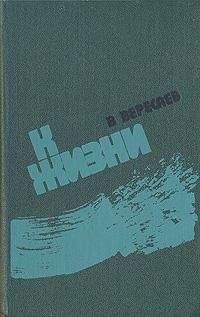Викентий Вересаев - В тупике
Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.
Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплеванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было. – его перевезли в клуб. Агапов с семьею ютился в гостинице Бубликова.
В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.
– Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?
Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.
– Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихвачу вас.
Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.
– Вина? Не могу товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.
– Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.
– Что за записка! Даже без печати… Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.
– Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!
– Не могу, – понимаете?
Солдат в фуражке артиллериста сказал:
– Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.
Они ушли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.
– Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!
Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.
– А я как раз вас ищу.
Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.
– Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.
– Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.
Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:
– Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.
Гребенкин усмехнулся.
– "Пригласи-ить"? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.
Катя удивилась.
– Зачем же насильно заставлять? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.
– Спрашивать их еще, – "желаете ли?" Го-го!
– Двух мало, – заметил Капралов. – Запасную еще наметь, – может, какая больна окажется.
– Больна-а? – Гребенкии грозно нахмурил брови. – Нам тогда скажи. Мигом вылечим.
Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.
– Да будет тебе! Вот человек! – возмутился Гребенкин. – "Просил", "согласилась"… Обязана идти без разговоров! Не те времена.
Катя вскипела.
– Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измывательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.
В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:
– Он озорничает. Что вы его слушаете.
– Ничего не озорничаю. "На всю Россию"… Сколько лет тут живет, – почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила… Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!
И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.
Тихонько вошел Агапов, – осунувшейся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:
– У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.
– Нет, я к тому… Жарко-с! – Агапов обратился к Ханову. – Получил я повестку от ревкома, – завтра идти в лес дрова рубить.
Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:
– Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?
– Помилуйте, мои годы не те!
– Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет, – до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним. – отчего же вас нельзя?
– Я понимаю, я не о том… Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности… Да сердце-то у меня, изволите видеть, больное.
– Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.
– Я вам представлю свидетельство врача.
Ханов сказал:
– Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.
– Ерунда! – отрезал Гребенкин. – Знаем мы эти свидетельства! Всякую чахотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра, – в подвал вас отправлю.
Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведовавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.
Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.
– Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.
– Не обойдется, – подтвердил Гребенкин. – Хлеба у всех, сколько угодно. Позакопали в землю и прибедняются.
Ханов примирительно возразил:
– Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.
– Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.
– Ах, оставь ты, Сашка!
Катя обратилась к Капралову:
– Пойдемте?
Они вышли. Совсем другой был Капралов, – никогда его Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.
– Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?
– Бросил. Не до того.
Пошли в библиотеку, – в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекарша Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.
– Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал, – хороша вышла будочка!
И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.
Он спросил:
– Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?
– Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.
– А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.
– Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?
– Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках. Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна "Нива" да "Вокруг света".
– Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?
– Ну, когда другие времена будут… А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?
В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Густо валила публика, – деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался. Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство, – Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.
Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лущили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.
Третий звонок. Сопротивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерскою будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.
– Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся… Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами…
Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.
Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.