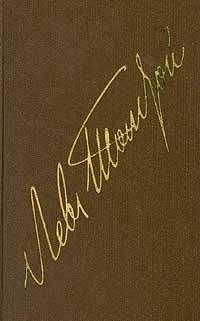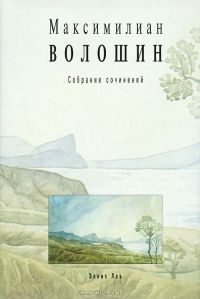Михаил Салтыков-Щедрин - Том 2. Губернские очерки
— До них ли теперь! видишь, господа купцы наехали! обождут, не велики барыни!
— А что, Демьяныч, видно, на квас-то скупенек, брат, стал? — говорит ямщик, откладывая коренную лошадь, — разбогател, знать, так и прижиматься стал!.. Ну-ко, толстобрюхий, полезай к хозявам да скажи, что ямщикам, мол, на чай надо! — прибавляет он, обращаясь к Петру Парамонычу.
Между тем предмет этих разговоров, Иван Онуфрич Хрептюгин расположился уж в светелке с своим семейством, состоящим из супруги, дочери и сына, и с двумя товарищами, сопутствующими ему в особом экипаже. Хрептюгин, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, зевает и потягивается. Дорога утомила и расслабила его нежное тело; в особенности же губительно подействовала она на ноги почетного гражданина, несмотря на то что ноги эти, по причине необыкновенной тонкости кожи, обуты в бархатные сапоги. Причина этого губительного действия заключается в том, что, сооружая себе «корету», Иван Онуфрич не столько думал об удобствах, сколько об том, чтоб железа и дубу было вволю, и чтоб вышла корета «православным аханье, немцам смерть и сухота». Хрептюгин — мужчина лет сорока пяти, из себя видный и высокий, одетый по-немецкому и не дозволяющий себе ни малейшего волосяного украшения на лице. Походку имеет он твердую и значительную, хотя, по старой привычке, ходит, большею частию, заложивши руки назад. Многие еще помнят, как Хрептюгин был сидельцем в питейном доме и как он в то время рапортовал питейному ревизору, именно заложивши назади руки, но стоя не перпендикулярно, как теперь, а потолику наклоненно, поколику дозволяли это законы тяготения; от какового частого стояния, должно полагать, и осталась у него привычка закладывать назади руки. Многие помнят также, как Иван Онуфрич в ту пору поворовывал и как питейный ревизор его за волосяное царство таскивал; помнят, как он постепенно, тихим манером идя, снял сначала один уезд, потом два, потом вдруг и целую губернию; как самая кожа на его лице из жесткой постепенно превращалась в мягкую, а из загорелей в белую… Но, разумеется, все эти воспоминания передаются только шепотом, и присутствие Хрептюгина вмиг заставляет умолкнуть злые языки.
Супруга его, Анна Тимофевна, дама весьма сановитая, но ограниченная, составляет непрестанно болящую рану Хрептюгина, потому что сколько он ни старался ее обшлифовать, но она еще и до сих пор, тайком от мужа, объедается квашеною капустой и опивается бражкой. Нередко также обмолвливается она неприятными словами, вроде «взопреть», «упаточиться», «тошнехонько» и т. п., и если это бывает при Иване Онуфриче, то он мечет на нее столь суровые взгляды, что бедная мгновенно утрачивает всю свою сановитость, теряется и делается способною учинить еще более непростительную в образованном обществе обмолвку.
Зато Аксинья Ивановна (о! сколь много негодовал на себя Иван Онуфрич за то, что произвел это дитя еще в те дни, когда находился в «подлом» состоянии, иначе нарек ли бы он ее столь неблагозвучным именем!) представляет из себя тип тонной и образованной девицы. Она столько во всех науках усовершенствована, что даже и papa своему не может спустить, когда он, вместо «труфель», выговаривает «трухель», а о maman нечего и говорить: она считает ее решительно неспособною иметь никакого возвышенного чувства. Иван Онуфрич, имея в виду такую ее образованность, а также и то, что из себя она не сухопара, непременно надеется выдать ее замуж за генерала. «Хоть бы с улицы, хоть бы махонького какого-нибудь генералика!» — частенько думал он про себя, расхаживая взад и вперед по комнате, с заложенными за спину руками. «Ах, что это вы, папа́, всё за спиной руки держите, точно «чего изволите?» говорите!» — скажет Аксинья Ивановна, прерывая его попечительные размышления. «Слушаю-с, ваше превосходительство!» — ответит Иван Онуфрич, погладит Аксюту по головке и станет держать руки по швам.
Совершенную противоположность с своей сестрицей составляет рожденный уже по приобретении Иваном Онуфричем благ цивилизации осьмилетний сын его, Démétrius Иваныч. Хотя он одет в бархатную курточку, но так как «от свиньи родятся не бобренки, а все поросенки», то образ мыслей и наклонностей его отстоит далече от благоуханной сферы, в которой находятся его родители. Сыздетска головку его обуревают разные экономические операции, и хотя не бывает ни в чем ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болезни, все о том только и мнит, как бы с отческого стола стащить и под комод или под подушку на будущие времена схоронить. К изучению французского языка и хороших манер не имеет он ни малейшего пристрастия, а любит больше смотреть, как деньги считают, или же вот заберется к подвальному и смотрит, как зеленое вино по штофикам разливают, тряпочкой затыкают, да смолкой припечатывают. «Брысь, слякоть!» — скажет ему подвальный Потапыч, а он ничего, даже не обидится, только сядет в уголок, да и наслаждается оттуда полегоньку. «Лютая бестия из тебя выдет, Митька!» — скажет Потапыч и примется снова за свое дело. В настоящее время Митька беспрестанно вынимает из карманов своих шаровар что-нибудь съедобное и меланхолически пожевывает.
Один из спутников Хрептюгина — армянин Халатов*. Он принадлежит к числу тех бель-омов, которых некоторые остроумцы называют отвратительно-красивыми мужчинами. Говорит он по-русски хорошо, но уже по той отчетливости, с которою выговаривается у него каждое слово, и по той деятельной роли, которую играют при произношении зубы и скулы, нельзя ошибиться насчет происхождения этого героя. Впрочем, он нрава малообщительного, больше молчит, и во время всей последующей сцены исключительно занимается всякого рода жеваньем, в рекреационное же время вздыхает и пускает страстные взоры в ту сторону, где находится Аксинья Ивановна, на сердце которой он имеет серьезные виды.
Другой спутник — птица небольшая, да и не малая, той самой палаты столоначальник, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всех армян, еллинов и иудеев воспитывает, «да негладны и беспечальны пребывают». Прозывается он Прохор Семенов Боченков, видом кляузен, жидок и зазорен, непрестанно чешет себе коленки, душу же хранит во всей чернильной непорочности, всегда готовую на послугу или на пакость, смотря по силе-возможности. Его тоже разломило в дороге, потому что он ходит по комнате аки ветром колыхаемый, что возбуждает немалую, хотя и подобострастную веселость в Хрептюгине. Везет его Иван Онуфрич на свой счет.
— Видно, богу помолиться собрались, Иван Онуфрич? — спрашивает вошедший хозяин.
— Да, надо молиться. Он нас милует, и мы ему молиться должны, — отвечает Иван Онуфрич отрывисто.
— Из сидельцев… — начинает Анна Тимофеевна, но Иван Онуфрич бросает на нее смертоносный взгляд, и она робеет.
— Вы вечно какую-нибудь глупость хотите сказать, maman, — замечает Аксинья Ивановна.
— Что ж за глупость! Известно, папенька из сидельцев вышли, Аксинья Ивановна! — вступается Боченков и, обращаясь к госпоже Хрептюгиной, прибавляет: — Это вы правильно, Анна Тимофевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и нощно бога молить следует за то, что он его, царь небесный, в большие люди произвел. Кабы не бог, так где бы вам родословной-то теперь своей искать? В червивом царстве, в мушином государстве? А теперь вот Иван Онуфрич, поди-кось, от римских цезарей, чай, себя по женской линии производит!
Хрептюгин от души ненавидит Боченкова, но боится его, и потому только сквозь зубы цедит:
— Хоть бы при мужике-то не говорил!
— А корету важную изладили, Иван Онуфрич! — начинает опять Демьяныч, с природной своей сметливостью догадавшийся, что положение Хрептюгина неловко.
— Карета не дурна — так себе! — отвечает Хрептюгин, — что ж, не в телегах же ездить!
— Ай, какие ужасы! — пищит Аксинья Ивановна.
— Как же можно в телегах! — рассуждает Демьяныч, — вам поди и в корете-то тяжко… Намеднись Семен Николаич проезжал, тоже у меня стоял, так говорит: «Я, говорит, Архипушко, дворец на колеса поставлю, да так и буду проклажаться!»
— Ну, уж ты там как хочешь, Иван Онуфрич, — прерывает Боченков, почесывая поясницу, — а я до следующей станции на твое место в карету сяду, а ты ступай в кибитку. Потому что ты как там ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянские, а у тебя холопские.
От этой речи у Ивана Онуфрича спина холодеет, и он спотыкается на ровном месте.
— В Москве, что ли, корету-то делать изволили? — выручает опять Демьяныч.
— Своими мастеровыми! — отрывисто отвечает Хрептюгин.
— Слышал, батюшка, слышал; сказывают, такой чугунный заводище поставили, что только на удивленье!
— Я люблю, чтоб у меня все было в порядке… завод так чтоб завод, карета так карета… В Москве делают и хорошо, да все как-то не по мне!