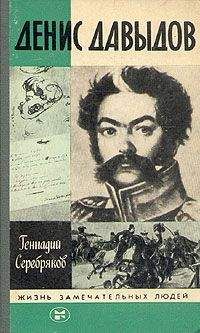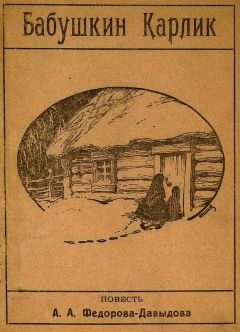Александр Давыдов - Воспоминания
Считая положение слишком ответственным, я не прибегнул в моем ответе матери к каким-либо дипломатическим приемам и прямо сообщил ей все, только что изложенные (155) мною, соображенья, что было фактически непринятием ее предложенья. Не желая, однако, совершенно отказать ей в помощи, я предложил, как компромиссное решенье, взять в управление то из наших имений, которое приносило ей больше всего хлопот, при том, однако, условии, что в случае ее согласия, она наперед откажется от всякого вмешательства в мое управленье, и что все прибыли и убытки я беру на себя. Моя мать как будто обрадовалась моему предложению и сразу сказала мне, что будет рада, если я возьму управленье нашим Крымским имением Саблы, где дела идут из рук вон плохо и где ей приходится ежегодно доплачивать значительные суммы. Мы тут же пришли к полному согласию и было решено, что в начале сентября, ликвидировав свои дела в Петрограде, я перееду в Саблы.
Идя навстречу желанью моей матери, я отлично сознавал все плюсы и минусы предстоящей мне деятельности. К первым относилось то, что сами Саблы были прекрасным имением, расположенным на Крымском полуострове, в 14 верстах от Симферополя, в предгорий Яйлы, на обоих берегах реки Алма, и заключало в себе 2 600 десятин земли. Хотя большая часть его была покрыта горным дубом, годным лишь для топлива, оно было очень интересно в хозяйственном отношении. В нем было около 90 десятин промышленного фруктового сада, 40 десятин огородной поливной земли, табачные плантации, породистое стадо коров и, хотя небольшое, но достаточное полеводство. Плюсом было и то, что Саблы были расположены близко к железнодорожной станции Симферополь, месту остановки прямых курьерских поездов, дающих возможность в удобных условиях переноситься за 36 часов в Петроград, за 24 часа в Москву и за 12 часов в Харьков. Наконец, в имении был хороший дом с парком, а шоссейные дороги, соединяющие Симферополь с Южным берегом, позволяли мне совершать поездки в Ялту и другие прибрежные города на автомобиле. Нечего говорить о прекрасном умеренном климате, позволявшем приятно жить в деревне круглый год.
Минусов было несколько, менее и более важных. К первым надо отнести тот факт, что имение, перешедшее к нам по (156) наследству отца, состояло в пожизненном владении моей бабушки, и вследствие этого, чтобы управлять им, моей матери приходилось его арендовать. Бабушка моя Елизавета Сергеевна Давыдова была дочерью декабриста кн. С. П. Трубецкого и жены его, известной Каташи Трубецкой, передавшей ей имение в приданое, когда она в Иркутске выходила замуж за моего деда П. В. Давыдова, сына декабриста. Прожили они вместе в имении почти безвыездно около 60 лет, и после смерти моего деда, случившейся в 1912 году, бабушка, достигшая 80-тилетнего возраста, продолжала жить в Саблах, лишь на зиму переезжая в Симферополь. Таким образом мне предстояло жить полгода несамостоятельно, а как бы в гостях. Обстоятельство это само по себе меня не очень смущало и даже отчасти устраивало, освобождая меня в самое горячее рабочее время от домашних хозяйственных забот. Смущало меня только то, что до этого времени никто из потомства моей бабушки не мог с ней ужиться, так что будучи уже дряхлой, больной и слепой старухой, она вынуждена была жить одной в обществе двух, совершенно чуждых ей, сестер милосердия. Причиной этому было то, что, будучи почтенной и уважаемой женщиной, бабушка обладала тяжелым характером. Соглашаясь на мое предложение взять в свое управление Саблы, моя мать напомнила мне об этом обстоятельстве, причинившем ей много неприятностей в деловых с ней отношениях. Вторым минусом было то, что хозяйство в имении пришло в очень плохое состояние и что ничем иным нельзя было объяснить необходимость для моей матери вкладывать в него ежегодно значительные суммы.
Эти два минуса, хотя и неприятные, казались мне не столь уже важными, особенно первый. Гораздо сложнее представлялся мне третий минус. Соседи по имению, крестьяне деревни Саблы, пользовались у помещиков Крымского полуострова самой дурной репутацией. Их не называли иначе, как отчаянными ворами и разбойниками и очень неспокойным, в политическом отношении, элементом. Отношения между ними и управляющим моей матери были обостренные, и стычки носили постоянный характер. Еще в 1905 году, в эпоху крестьянских волнений, крестьяне деревни Саблы совершили нападение на дом управляющего и разгромили его. Управляющий (157) и его жена еле спаслись бегством. Помню, что совершив разгром, крестьяне не тронули ни усадьбы, ни остальных построек в экономии, ни какого-либо хозяйственного имущества. Разумеется, в тот же день в имение приезжал губернатор в сопровождении судебных властей и воинской части. Прокурор и судебный следователь произвели следствие, а административная власть расправилась по-своему, подвергнув телесному наказанию зачинщика нападения Петра Гутенко. Через несколько месяцев участники нападения были судимы выездной сессией Одесской Судебной Палаты с участием сословных представителей, особым судом, установленным для преступлений политического характера. Временно проживая тогда в Симферополе, но не имея никакого отношения к управлению имением, я, больше из любознательности, поехал вслед за властями на место происшествия. К счастью, я приехал уже после совершения экзекуции, но из разговоров с губернатором и прокурором я понял, что оба они смотрели на происшествие, как на обычное "крестьянское волнение". Так же впоследствии оценила нападение на дом управляющего и Судебная Палата, вынесшая соответствующий приговор. У меня же создалось совершенно другое впечатление, позже оказавшееся правильным.
Живя после этого долгое время в Петрограде и состоя на службе в Миниистерстве Финансов, я был далек от крестьянского и аграрного вопросов, но все же, когда иногда приходилось о нем думать, у меня всегда была чувство, что все заинтересованные в нем группы как-то неправильно подходят к нему. К этим группам я относил и власти, и помещиков, и народническую радикальную интеллигенцию. Служа в Кредитной Канцелярии, одной из главных задач которой было поддержание международного курса рубля, я был склонен скорее оправдать правительственную политику в аграрной части "крестьянского" вопроса. Я знал, что одновременная разбивка крупных имений на мелкие крестьянские хозяйства является очень рискованным для курса рубля мероприятием, угрожавшим хлебному экспорту, главной основе русского торгового баланса. Мне казалось, что правительство должно найти какой-то другой путь для разрешения больного вопроса, имеющего столь большое политическое значение. Пожалуй, такой (158) путь и был найден в Столыпинских хуторах. Подход к вопросу народнической радикальной интеллигенции и особенно народнических революционных партий, при всей моей политической объективности, казался мне неосновательным и безответственным. Научившись на государственной службе реалистически относиться к государственным вопросам, я вполне признавал устарелость самодержавного строя и соответственно с этим полагал вполне логичной общественную борьбу против него, но никак не мог понять, как можно в преследовании цели политической революции вызывать социальную. При моем реалистическом отношении к вопросу, вера в какую-то особенную крестьянскую правду, в существование "социалистического крестьянина", казалась мне химерой. Но что больше всего меня поражало в подходе к крестьянскому вопросу народнических революционных партий, то это была их безответственность по отношению к экономическим судьбам России. Это тем более меня удивляло, что я знал их большой и чистый патриотизм. Не говоря уже о том, что партии эти были совершенно оторваны от народа и жили утопическими о нем представлениями, они никакого понятия не имели о русском расчетном балансе и о достатках, подлежащих разделу, согласно лозунгу общества "Земля и Воля", земли. Для этих идеалистических патриотов все средства для свержения ненавистного им самодержавия были хороши.
Что касается третьей, прямо заинтересованной в аграрном вопросе группы, помещиков, особенно дворян, владевших родовыми поместьями, то тут меня поражала какая-то закостенелость в подходе к этому вопросу. От этого подхода пахло застарелой сыростью и плесенью. Несмотря на явную невыгодность эксплуатации ими своих имений, дававших в лучшем случае 3% дохода, компенсируемой лишь ростом ценности земли, они держались за них либо из сантиментальных соображений, любви к старинным своим усадьбам, либо понимая, что, отойдя от земли, они как "сословие" потеряют окончательно свое доминирующее положение в государстве, фактически в значительной степени уже утраченное. Недооценивая угрозы грядущей революции, они слабеющими руками цеплялись за землю. Но что меня лично еще с детских лет поражало в отношениях между помещиками и крестьянами, то это их (159) психологическая сторона. Как известно, если дети и юноши не способны оценивать и анализировать свои впечатления, то они переживают их гораздо сильнее, чем взрослые, и впечатления эти оставляют на всю жизнь глубокий след в их сознании и часто способствуют формированию их будущих убеждений. Ребенком и юношей я проводил летнее время в деревне, где поневоле наблюдал за отношениями между местными помещиками и крестьянами, в частности между моим отцом и нашими соседями - крестьянами деревни Юрчихи в Чигиринском уезде. В то время еще широко практиковался старый способ разрешать недоразумения с "мужиками" путем мордобоя, и, когда это происходило на моих глазах, мое моральное чувство настолько возмущалось, что я долгое время не мог прийти в себя от испытанного смущения и стыда за того, кто позволял себе бить фактически беззащитного человека. Но, кроме этого острого чувства, вызванного видом унижения человеческого достоинства слабейшего, на меня чрезвычайно сильно действовала глубокая фальшь в личных отношениях между помещиками и крестьянами, проявляемая с обеих сторон. Помню, как, когда к отцу приходили по какому-нибудь делу один или несколько крестьян, дворецкий докладывал ему об этом, и он "выходил" в буфетную или на двор, где его ожидали "просители". У отца, как впрочем и у других помещиков, в таких случаях совершенно изменялось выражение лица. Как-то автоматически, только что улыбавшееся лицо вдруг принимало строгое и надменное выражение, приличествующее высшему существу в его общении с низшими. Не говоря уже о том, что обращение помещика к крестьянам было всегда на "ты", в разговоре с ними всегда слышалась надменность и какой-то поучительный тон. Надо, однако, оговориться, что не все помещики принимали строгий тон в разговорах с крестьянами, некоторые, наоборот, уподобляясь Манилову, придавали своей речи слащаво-сентиментальный характер, в котором было еще больше фальши. Крестьяне не менее фальшиво отвечали помещикам. Они, как полагалось, "ломали шапки", а во времена моего детства целовали барскую "ручку" или "плечико". Лица их принимали какое-то жалостное, умоляющее выраженье, полное самоуничижения. Если в мое время выражение: "Вы наши отцы, а мы Ваши (160) дети", - уже вышло из употребления, то крестьяне продолжали отвечать на поучительный тон помещика словами: "Что ж, Вы ученые, Вам лучше знать". Ясно было, что обе стороны старались обмануть друг друга, но если крестьяне прекрасно разгадывали мысли помещика, то последние никак не могли проникнуть за каменную стену крестьянской скрытности и разгадать их психологию. Такой характер отношений сказывался во всем. Когда помещик откликался на просьбу крестьян, то это носило характер благотворительности, когда же они чем-нибудь вызывали его неудовольствие, то на них низвергались громы и молнии его гнева. Все это было отвратительно и оставило во мне на всю жизнь тяжелое впечатление.