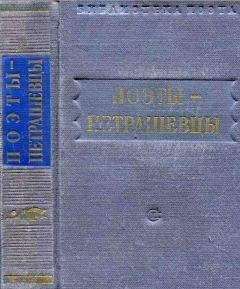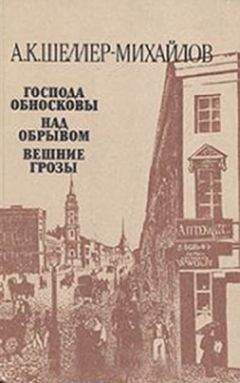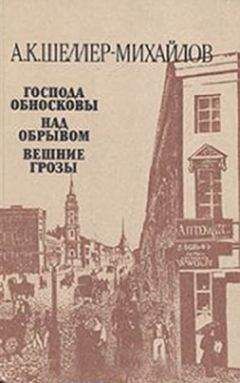Александр Шеллер-Михайлов - Господа Обносковы
Павел был ошеломлен этим шумным, блестящим и непривычным для него зрелищем и не мог сразу опомниться, к тому же у него почти под ухом проклятый оркестр гремел и визжал, заливаясь персидским маршем. Мужественные трубы и литавры, казалось, силились заглушить бабий визг пискливых скрипок, а скрипки, в свою очередь, наперерыв друг перед другом старались взвизгивать, как можно резче и чаще, точно это был шабаш ведьм, не слушающих басовых приказаний сатаны замолчать.
— А где же мой юный друг? — очнулся кузен Пьер и, увидав Павла, представил его толпе своих друзей. — Охотник до лошадей, — отрекомендовал он.
— А до наездниц? — спросил кто-то носовым голосом.
— Все придет, все придет своим чередом! — успокоил кузен Пьер.
К Павлу протянулась рука графа Родянки.
— А ты заметно стареешь, — насмешливо шепнул кузену Пьеру Левчинов. — Начинаешь делаться наставником и покровителем юношества.
— Что делать, что делать! — воскликнул с ироническим добродушием кузен Пьер. — Надо что-нибудь новое, свежее, вы все стали до крайности однообразны, повыдохлись и приелись.
— Это значит платить тою же монетою, — засмеялся Левчинов.
— Господа, чур сегодня не вызывать Маньку! — обратился кто-то в толпе к окружающим. — Маньку надо проучить. Она ласковее, когда ее проучат.
— За себя ручаюсь. Я сегодня буду аплодировать только юному Банье. Да здравствуют юноши и их свежесть! — воскликнул кузен Пьер.
— Пойдемте в буфет, теперь дура Лорен будет трясти свои старые кости на старой кляче, а потом Феликс будет ломаться, — проговорил кто-то раздражительным голосом.
— И черт их дергает высылать таких уродов ребят, как Феликс, или таких старых ведьм, как Лорен! — заметил кузен Пьер. — Кому они нужны!
Толпа, с громом сабель и шумом речей, хохота и брани против распоряжений цирка, двинулась в буфет через конюшни, где приготовлялись волтижеры и украшались лошади.
— Сейчас начинается, — заметил, раскланиваясь, содержатель цирка своим дорогим посетителям.
— Что начинается-то? — ответили ему. — Скелет вашей Лоренши будут волочить по арене? Толстый живот и кривые ноги вашего слюнявого Феликса будут показывать зевакам?
— Пра-о, к вам по-адочные люди пегестанут ездить, если вы так будете состаа-лять афиши.
Содержатель цирка, привыкший понимать язык клоунов, понял и эти произнесенные в нос и исковерканные слова и униженно раскланялся, постарался подобострастно улыбнуться и робко заметил:
— Что делать, что делать! Хороших сюжетов мало и они капризничают, не хотят себя утомлять. А надо как можно более нумеров для афиш. Публика ценит продолжительность представлений.
— Ка-а-кая публика? Эта-то? — с презрением кивнули в толпе головами по направлению к массе, терпеливо ожидающей представления. — Много она принесет вам доходу!
— Ду-аки эти ди-ектога цигков, — говорил кто-то в толпе. — Не понимают, что все эти ка-а-мелии никогда не заглянули бы к ним, если бы представления длились всю ночь, но не было бы нас. А с гайка сбог невелик.
Павел остался между тем на своем месте и не пошел в буфет.
Первые два нумера прошли вяло: протаскала по арене разбитая кляча Фанни такую же разбитую клячу Лорен, и обе пошли отдыхать в свои стойла, и, вероятно, стойло Фанни было гораздо лучше, уютнее и теплее стойла Лорен, давно приютившейся среди обносков и хлама старых тряпок в грязной каморке, не то гардеробной, не то кладовой в богатой квартире мисс Шрам, у которой Лорен занимала место среднее между горничной и — как бы это прилично выразиться — секретарем в юбке, объявлявшим поклонникам мисс Шрам, что нужно сделать, чтобы добиться знакомства юной повелительницы. После старых кляч Фанни и Лорен на арене показал свои действительно кривые ноги и действительно толстый живот, облеченный в трико тельного цвета, Феликс. О! лучше бы он никогда не облекался в трико, лучше бы никогда не появлялся на арене со своими вывихнутыми ногами! Он поломался, погнулся по-змеиному, потряс во все стороны тысячу раз своею большой головой, как привязанным на нитке узлом ненужного тряпья, потом скрылся и под рукоплескания райка выбежал снова, перекувырнулся десять раз в навозной земле арены и встал в позу летящего амура, отставив одну кривую ногу назад, выпятив вперед живот и поднося с лакейскою ловкостью правую руку к губам, что должно было означать благодарственный воздушный поцелуй публике со стороны этого милого младенца. После такой любезности милый младенец легко повернулся на одной кривой ножке и убежал, снова вызвав новые рукоплескания райка. Лицо этого невинного младенца тотчас же изменилось, как только за ним задернулась занавеса. Там он обернул голову по направлению к публике и, искривив свое невинное личико уродливой гримасой, высунул язык. Воспользовавшись удобным случаем, ему кто-то из милых малюток цирка подставил ногу, и Феликс грохнулся на землю. Завязалась драка. В это время выводили лошадь для мисс Шрам, и берейтор очень бесцеремонно и дружески хлестнул своим бичом по невинно забавлявшимся малюткам. На лице одного из невинных младенцев осталась розовая от выступившей крови полоса.
Начался плач, но шум сабель и говор заглушили эти хныканья и прекратили сцену; за лошадью мисс Шрам из-за занавесы высыпала толпа конюхов и молодежи; между этими членами семейства цирка порхнуло воздушное, коротенькое газовое платье, усеянное камелиями, и легкие ножки, обтянутые в шелковое трико, резво помчали по направлению к коню мисс Шрам, рассыпавшую во все стороны воздушные поцелуи рукоплещущей публике.
— Бра-о, бра-о! — неистовствовала толпа клоунов и кутящей молодежи. — Бра-о!
Клоуны коверкали язык для возбуждения сильнейшего смеха в публике своим полнейшим унижением и исключением себя даже по языку из человеческого общества; блестящая молодежь коверкала тоже свой язык, но только из чувства сознания своего достоинства, не позволяющего говорить языком людей.
— Без буфф, — радостно шепнул кузен Пьер, помещаясь возле Павла.
От кузена Пьера пахло шампанским.
Кузен Пьер продолжал делать свои замечания, одно циничнее другого, но Павел уже не слушал его и впился глазами в носящуюся по арене мисс Шрам.
В этой, еще прекрасной, хотя и не первой молодости, женщине было действительно какое-то безумное, бесшабашное и опьяняющее ухарство. Она неслась по арене, щелкая бичом и прерывистым диким криком подстрекая лошадь, неслась с такою быстротою, как будто за ней гналась стая голодных и бешеных волков, и у нее самой была тысяча жизней и все одна другой ненужнее, одна другой постылее. Вся масса кровожадно приковалась глазами к этому летающему в воздухе существу. Только гиканье берейторов и мисс Шрам да хлопанье бичей нарушали тишину. Вдруг какой-то клоун зазевался и не успел продернуть полотна, через которое прыгала мисс Шрам, и она на всем скаку слетела с лошади на землю. Павел вскрикнул и вскочил… Но в ту же минуту мисс Шрам снова неслась на лошади и, погрозив пальцем неосторожному клоуну, снова кричала прерывающимся, диким голосом, и цирк оглушали неистовые рукоплескания одуревшей, опьяненной толпы дикарей. Казалось, что сотни обитателей сумасшедшего дома собрались сюда устроить свой бешеный шабаш. Какой-нибудь африканский дикарь, привыкший к самым звероподобным кривляньям, удивился бы при виде этого безумного ломанья цивилизованной толпы. Но каково было бы его удивление, если бы он мог понять, что на эти ломанья бросаются десятки тысяч образованными людьми? Но мы присмотрелись к этому безумию и давно потеряли способность удивляться чему бы то ни было.
— Чего вы испугались, юноша? — промолвил рукоплещущий кузен Пьер. — Это часто бывает. Беды большой нет. Декольтирует на минуту свои ножки, вот и все.
Но хладнокровие и уверенность мисс Шрам уже были потеряны. Строптивая и раздражительная, она смотрела гневно, с ее лица исчезла приветливая улыбка, и глаза сверкали злобой; в ее ноге чувствовалась легкая боль, но скачки наездница не прекращала. Еще было сделано два круга, на половине третьего круга мисс Шрам снова зацепилась за обруч и полетела, но уже не на арену, а по направлению к бенуару; стукнулась коленями о барьер, перекувырнулась в воздухе и без чувств упала под ноги какого-то офицера. Неосторожный клоун с обручем в руке тоже покатился в ложу и всей массой своего тела стукнулся о голову другого господина, сбив с него шляпу. Мисс Шрам не вставала; ее подняли и повели под руки к конюшне, хотя лучше было бы ее нести, так как ее ноги не двигались. Часть публики двинулась к конюшне, но туда допускали только «своих людей», в число которых попал и Павел по протекции кузена Пьера, а остальным говорили, что «все пустяки», что «последствий не будет». На арене уже кувыркались и пели петухами клоуны… Через четверть часа мисс Шрам под крики «бра-о» раскланивалась публике.