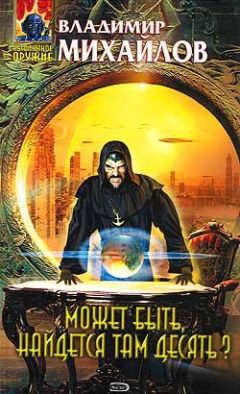Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь
— А муравьиный спирт?
— Пил.
— А средство от перхоти?
— Пил.
— А тормозную жидкость? — не унимался Борис.
— Пил! — с торжеством отвечал Лева под общий хохот.
Весь почти день «тунеядцы» играли в домино, с нетерпением ожидая своей очереди: в камере было всего два комплекта косточек. Блатные играли в карты где-нибудь в углу на верхних нарах, потому что в карты играть категорически воспрещено. Карты делали из газетной бумаги, с помощью химического карандаша, хлеба, сахара и воды, трафарет вырезая бритвой. Некоторые проигрывались дотла, до последней рубашки, а выигравший тогда надевал на себя несколько рубашек, одну на другую. Иногда возникали ссоры, я был свидетелем довольно виртуозной ругани между Сашкой и Володькой, с самыми страшными угрозами. Такая ругань у блатных вообще играет немалую роль своего рода морального подавления. Победил, конечно, Сашка, как старший и более опытный. Меня тоже Володька пытался вовлечь в игру, как говорили, «зафаловать», но потом отстал, видя, что я упорно не соглашаюсь. Потом в камере появился еще один молодой блатной, с каким-то желтым лицом и порядочным животиком, который тоже всячески пытался вовлечь меня в игру. Он принадлежал к типу «светских», разговорчивых блатных, любящих «побазлать», и вообще был порядочная дешевка. В свое время он был одним из первых выслан из Москвы в Красноярский край, там успел получить еще три года лагерей и теперь возвращался из лагеря отбывать остающийся срок ссылки. Мне он вначале как-то туманно сказал о себе, что можно жить за счет своих рук, можно жить за счет ума, и вот он-де живет за счет своего ума. Я полагаю все же, что в какой-то степени он жил за счет рук, потому что был бильярдный игрок и карточный шулер. Впоследствии он рассказывал некоторые свои похождения в Красноярском крае, вроде того, как он играл в карты с полковником, героем Советского Союза. Он играл с полковником у него дома, держа на коленях запасную колоду карт; и полковник проиграл все деньги, потом часы и, наконец, предложил играть на свою золотую звезду. Когда шулер отказался, считая, видимо, что он недостоин такой награды, полковник неожиданно постучал в стену, вошел здоровый верзила, сосед полковника, и полковник сказал ему: «Коля, этот парень меня обокрал». «А ну, клади деньги и сматывайся отсюда», — сказал Коля. Шулер оторопел от такого коварства, однако успел схватить часы полковника и свою колоду карт и выскочил в окно. «Подумать только, и это герой Советского Союза!» — говорил он нам с горечью. Он с удовольствием вспоминал первые годы «тунеядства», когда почти никто из ссыльных не работал, женщины кормились проституцией, а мужчины чем Бог пошлет. Так, семеро «пацанов» вроде него самого украли подушки в каком-то детском саду, чтобы продать их на базаре, но решили сначала немного отдохнуть и, обложившись для комфорта подушками, расположились со своей девицей на опушке леса. Однако, едва они успели выпить, как их окружили специально посланные студенты сельхоз-техникума, захватили вместе с подушками и девицей и заперли в ближайшем сельсовете, где они, чтобы не терять времени даром, поставили свою подругу головой в печку и развлекались таким образом в ожидании суда и расправы под удивленными взглядами толпящихся у окон студентов. Может быть, за эту «операцию» он и получил свои три года.
Хотя я категорически отказывался играть с кем-либо, все же я сыграл дважды, правда, не в карты, а в домино; игра эта привлекла внимание всей камеры. Играл я с Левой. Как я уже говорил, у Левы был огромный мешок с салом, которым он ни с кем не делился и который вызывал общие насмешки. Через неделю после нашего прибытия в Свердловск в камере был ларек, я купил себе сахару и сливочного масла и ел кашу с маслом. Тогда Лева, который вообще все время задирал меня, стал говорить: я, мол, ем сало, а Андрей масло, масло себе покупает, а в карты играть боится — и все в этом духе. Тогда я в шутку предложил Леве сыграть одну партию в домино — сало на масло. Если я проиграю, то даю ему масло, а если он проиграет — то дает мне сало. После долгих колебаний Лева согласился, и мы сели за стол друг против друга. Вся камера столпилась вокруг нас; надо сказать, что Леве никто не сочувствовал. Играю я в домино крайне плохо, можно сказать, совсем не играю, но Лева так нервничал за свое сало, что проиграл. Правда, он дал мне лишь маленький шматок сала, но моральное поражение было для него так тяжело, что он вспоминал это сало еще год спустя в Сибири. Он потребовал, чтоб мы играли еще, но я отказался. На следующий день он пристал ко мне снова, требуя, чтобы мы играли на три рубля. Я согласился, с тем, чтобы это было в последний раз, и проиграл ему эти три рубля, отчасти из-за того, что вокруг опять столпилась вся камера и подавала мне разные советы, очень этим мешая. Но на этот раз выигрыш не принес Леве радости: тремя рублями его снабдил шулер, который уже не надеялся, что я сяду играть с ним, и теперь пришлось Леве отдать этот выигрыш шулеру; он сделал это тайком от всех, но потом эта история выплыла. Больше я ни с кем уже не играл.
Наконец, 14 июня, на девятый день нашего пребывания в Свердловске, нам, москвичам, приказали собираться с вещами и повели в этапную камеру, где собираются все заключенные, назначаемые к этапу. Лева так обрадовался, что нас «дернули», что забыл впопыхах свой знаменитый мешок с салом. По дороге он спохватился и хотел бежать за ним из строя, конвоиры кое-как успокоили его и принесли ему мешок уже в этапную камеру.
Если в нашей камере были только те, кому предстояло идти в ссылку, то в этапной собрался самый разный народ — все те, кого из тюрьмы предстояло отправить на следующий день в восточном направлении. Тут были и ссыльные, и те, кого отправляли на суд, и те, кто шел в тюрьму или в лагерь после суда. По камере бродили дяди довольно сурового вида, все в татуировках, или, по-блатному, в наколках. У некоторых были наколоты целые изречения, преимущественно непечатные, например, у одного на руке было наколото: «Счастье — не…, в руки не возьмешь». Я запомнил еще подростка лет шестнадцати, с совершенно безумным придурковатым лицом, его должны были судить за кражу велосипеда. Он все время ходил взад-вперед и что-то нечленораздельно бормотал. Остальные заключенные говорили, что ему место в сумасшедшем доме. В бане некоторые делали предположения, что он пассивный педераст, по-лагерному «козел», кличка самая оскорбительная.
В этапной камере я разговорился с двумя молодыми людьми довольно интеллигентного вида, каждый лет двадцати с немногим. Одному, с очень правильными чертами лица, предстоял суд за изнасилование; впрочем, он говорил, что «она сама дала», жила с ним несколько месяцев, а потом донесла на него. Заключенные постарше, которые обращали внимание на него, сразу же говорили: «Ну, этот сидит за целку». Глаз наметанный. Второму предстоял суд за «неповиновение властям», чем мне грозил в свое время Васильев. Он рассказал, что у его товарища было столкновение с милицией и он вступился за него. Во время предварительного следствия он успел побывать в карцере. У них в камере существовал обычай устраивать «суд» над каждым новым заключенным, старожилы разыгрывали из себя судью, прокурора, адвоката и палача. Один из новичков испугался этой игры, позвал надзирателя, и всю камеру посадили в карцер, по-блатному, «кичман». Там голая койка, нет прогулок и горячая пища через день.
Вечером мы побывали в бане, и нам вернули наши вещи. Тут Лева совершил маленькую спекуляцию, продав человеку, живущему за счет ума, который тут же в камере успел обыграть какого-то мальчика, за пятнадцать рублей костюм, купленный раньше у заключенного в столыпинском вагоне. Ночь мы провели в этапной камере, а наутро нас повели садиться в машину. Запихнули в «черный ворон» столько народу, что нечем было дышать, вдобавок стояла сильная жара. Мы ехали вперемешку с вещами; у меня так были зажаты ноги и руки, что я не мог пошевелиться. Казалось — еще немного, и я потеряю сознание, однако ничего, обошлось. Почти так же плохо пришлось и в столыпинском вагоне: на этот раз нас в купе было не семь человек, а четырнадцать, нам с Борисом пришлось спать вдвоем на узенькой полочке, а двое вовсе спали на полу. Немного легче стало после Омска, где ссадили несколько ссыльных.
Глава двенадцатая
НОВОСИБИРСК. ТОМСК. КРИВОШЕИНО
Одну ночь мы провели в дороге и 16 июня прибыли в Новосибирск. Если Свердловская пересыльная тюрьма, как и Московская, представляла собой замкнутый четырехугольник корпусов с внутренним двором, где были устроены загончики для прогулки заключенных, то Новосибирская тюрьма — как бы систему отдельных коттеджей. Мы сдали вещи, и нас провели в баню, тут не было душа, и пришлось пользоваться шайками; такая же баня была и в Томской тюрьме. После бани, или до бани, уже не помню, нас повели в ларек; отовариваться в ларьке можно было только по прибытии и при отбытии из тюрьмы. Там, впрочем, ничего не было, кроме черного хлеба, сахара, папирос и шоколада. Когда мы выбывали из тюрьмы, не было уже ни папирос, ни шоколада. Затем начался развод по камерам. Сначала произошла путаница: надзиратель, который вел нас, по ошибке захватил документы каких-то несовершеннолетних и долго не мог разобраться с нами, хотя видно было, что самому молодому из нас больше двадцати, а есть и просто сорокалетние. Когда это недоразумение разъяснилось, возникла новая трудность: нас, москвичей, стали разводить по разным камерам, а четверо из нас, как я говорил, объединили свои припасы и вместе покупали продукты в ларьке, но на их протесты не обратили внимание и не дали как следует разделить продукты, так что одним достался весь сахар, а другим все масло. Меня с самого начала немного удивила суровость сибирских надзирателей: они не говорили, а гаркали, лица у всех были насупленные, команды отрывистые. Вскоре я понял, что это просто напускной стиль, и надзиратели здесь не хуже и не лучше, чем в других тюрьмах.