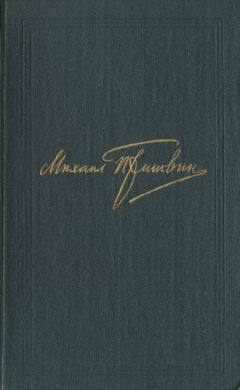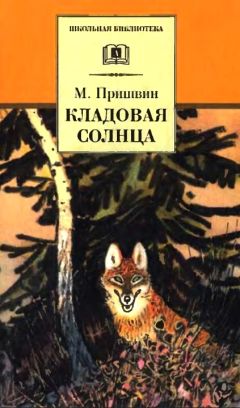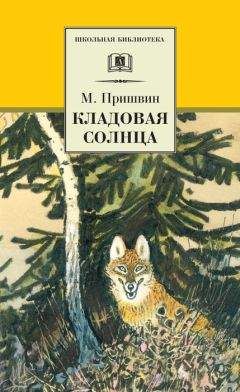Михаил Пришвин - Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца
Бабушка ничего не спрашивает, а только одно:
– Так у тебя головка болит?
– Болит, бабушка.
– На-ко, вот тебе от головки.
И дает ей чашечку молочка с сухарем.
– Что у тебя еще, кажется, животик болит?
– Да, и животик.
– Ну вот, на тебе и от животика.
И дает ей еще ломтик хлеба с морковным повидлом. Тереза поела, повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:
– Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло.
– Вот и хорошо, дитятко, иди с богом! – благословляет русская бабушка испанскую внучку.
Предрассветный час
Почему это в предрассветный час те же самые звезды приходят к нам на душу совсем по-иному, чем вечером?
Я думаю, оттого это, что не одни мы, а вся природа трепещет, вставая навстречу солнцу, и эта сила жизни нам передается, и сильному утренняя звезда указывает новый путь. И еще самое главное, что вечерние звезды – хозяева, и ты входишь в их власть, а утром не они тебе, а ты сам им говоришь свое «здравствуй». И когда при красной заре последний бесенок в лесу превратится в сучок, ты обернешься назад на голубое и сам, сильный, скажешь бледнеющим немощным звездам: «Прощайте!»
Ну, вот и совсем рассвело, и черные стволы высоких деревьев легли на белый снег длинными голубыми тенями. Даже палочка можжевеловая и та процвела, и заголубели серебряные волны моего прекрасного пути. Да, много еще до весны света, но бывает такой счастливый денек и в декабре: и мороз невелик, и на небе ни одного облачка, и все хорошо.
В этих голубых волнах на серебряном показываются черные, как жуки, детишки с салазками. Навстречу им идет собачка по тропе, остановилась, спросила ушками: «Кто это?»
Вильнула хвостиком и оборвала; это значило: «Как будто это вы, но не знаю, как будто тоже и не вы».
Вдруг завиляла хвостом, закрутила, узнала: «Это вы!»
Она бы пустилась в прыжки даже по снегу, даже до ушей утопая, но дети шли по тропинке той же самой, по какой она шла им навстречу. Умная собачка поняла, что ей незачем идти: они к ней сами придут.
И она остановилась, смотрит на детей, как они идут, и, стоя на месте, перебирает нетерпеливо передними тонкими ножками: то ли мысленно шла сама к ним, то ли представляла себе, как они идут, и по-своему торопила их ножками: «Скорей шевелитесь, граждане!»
Соловей
С цветущей веткой дикой яблони и с пучком ландышей по разным лесным тропинкам идут люди, потерявшие друг друга во время войны.
Сколько воды пронес лесной ручей с тех пор, как они потеряли друг друга! Раненые свои души они уже начали лечить прекрасными цветами весны и слушают радостно-утешительное пение птиц.
И вдруг на перекрестке тропинок эти люди встречаются, узнаются и, обнимая друг друга, топчут ногами в забытьи брошенные цветы и не слушают ни соловьев, ни зябликов.
Но у соловьев свой закон: они должны трудиться – петь, несмотря на то, слушают их эти люди или не слушают, петь навсегда и на всех.
Вот и они, эти двое с веткой дикой яблони и пучком ландышей, когда обнялись и порадовались, опять поднимают брошенные цветы и слушают опять зябликов и соловьев.
И эти бедные детишки, спасенные от холода и голода, в какой радости они снова бегают среди цветов, летающих птиц, жуков и бабочек!
У них у всех нет родной мамы: она умерла, и ее никем не заменишь! Но соловей поет свою вечную песню радости. Маленький человечек хватается за песенку и по песенке, как по лесенке, поднимается выше и создает себе новый, прекрасный мир: ему помогают лучшие силы страны и природы.
Повесть нашего времени*
I. Песнь песней
Как в самую глухую зиму по какой-нибудь узенькой алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь особенно дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там…
Вскоре после того, как рожь уберут, из леса на опушку начинают выступать разные деревца особенного вида и своим нарядом как бы выговаривать:
– Видите, я не такое, как все, – я желтенькое!
Другое хвалится, что золотое, третье краснеется.
И так вот, когда из всего еще зеленого леса начинают по опушке расставляться деревца отдельного вида, это значит – скоро всему тенистому летнему лесу наступит конец.
Но сейчас до этого еще далеко: рожь только что зацветает.
Вся рожь нашего богатого совхоза простирается между выселками, где мы только что перед войной построились, и усадьбой совхоза.
Мы ходили в усадьбу на работу каждый день сокращенным путем, и оттого через все большое поле от наших ног легла между стенами высокой ржи плотная белая озорная тропа.
В первый раз моя любимица Милочка встретилась со своим Сережей на этой озорной белой тропе, когда рожь зацвела.
И их простую любовь я хотел бы вознести, как царь Соломон вознес ее в Песни Песней.
Знаю, что и в то далекое время были войны, истребляющие все население городов и областей, и что такая великая беда не помешала царю поднять до небес священную песню любви.
Но сейчас, когда гремит война и все пьют мирскую чашу страданий, я не в силах писать, как мне хочется.
К тому же, позвольте заметить, я вовсе и не писатель. Образование мое, извините, недостаточное: по своей профессии я только слесарь и токарь, точу по металлу, или сверлю, или опиливаю железо – мысль моя скована делом. Но как только, бывало, освобожусь от работы, сейчас же принимаюсь учиться. В долгом опыте жизни восполнял я свое образование, и носок моего сапога туда-сюда прошел по всей русской земле.
Много я книг перечитал, прежде чем выбрал из них себе в вечные спутники десять мудрецов и, перечитывая их во множестве раз, приобрел священное уважение к слову. Я прошу заметить читателя, что величайшим русским писателем я научился понимать Пушкина, но никак не Гоголя. Признаюсь, что Гоголя я даже и не причитал к тем десяти избранным мною мудрецам. И он у меня с давних пор стоял на особой полочке, как изгнанник, но, правда, в двух изданиях: в роскошном переплете и своем собственном, как я умел сам переплетать, – в ситчике.
Это следует заметить, что все признанные мною писатели были в единственном экземпляре, и большей частью в ситчике, а отвергаемый в двух, и одно было роскошное, в красном сафьяновом переплете.
С детства этого Гоголя я ужасно боялся и повесть его «Страшная месть» ни разу не мог дочитать до конца. Страшный колдун потрясает меня и теперь, когда я читаю те страницы, где показывается в горах из облаков Мститель – всадник с мертвыми очами, и тень его, месть, начинает распространяться по всей земле. И сейчас, когда весь мир содрогается от войны, я, вспомнив всадника-Мстителя, складываю на груди крепко-накрепко ладони, прижимаю локти к бокам и чувствую, будто тело мое дрожит мелкой дрожью. Мне кажется в это время, что вся небывалая мировая война есть тень того всадника-Мстителя.
Так и поставил я Гоголя, как испуганный ребенок, на особую полочку, и бывает со мной, что даже если только погляжу в ту сторону – затоскую, и так, недовольный собой, прохожу весь день.
Не с Гоголем была всю жизнь душа моя, а вот на кого мне хотелось быть похожим, – осмеливаюсь сказать, – на русского летописца Нестора. В свое время понял я такой идеал человека, читая с благоговением «Русскую историю» Ключевского. Сквозь туман далекого прошлого, из темных лесов нашей родины светит мне его лампада, и мне хотелось бы тоже быть таким стариком: простым, скромным, как он, и, как молодой, устремленным с верой в грядущие времена.
Не раз в жизни встречал я таких простых и мудрых людей, притаенных в народе. Верю, что и сейчас, сию даже минуту, в самые тяжкие дни войны этой, где-нибудь такой человек намотал себе на ухо веревочки от очков и пишет.
Но пусть он сам и не пишет – все равно: в поступках своих он не будет слепо подчиняться судьбе и непременно послужит великому делу любовной связи людей между собою.
Для примера я возьму Мирона Ивановича Коршунова из Подгорной слободы нашего Переславля: старик моих лет и тоже, как я, запойный читатель. Нужно бы большой том написать о его жизни, как он в свое время, приняв по правде мысли Льва Толстого, отдал лет десять, чтобы из-под них освободиться, и как, освободившись от Толстого, лет на пятнадцать попал к Достоевскому. А когда пришел коммунизм, он понял это ученье как любовь к человеку. Но мало того, что люди такие, как я говорю, у нас были повсюду, люди, рожденные и связанные духом деятелей русской сердечной мысли, – дети их тоже выходили, зараженные чтением.
Большеглазого сынка Мирона Ивановича Алешу я помню с детства за книжкой и не знаю, кем бы ему стать при таком чтении и уличном озорстве, если бы Мирон Иванович вовремя не опамятовался и не отдал его в ученье на бухгалтера. С малолетства любил я этого мальчишку. Глазища большие, серые, и сам как кот: не поймешь, что в нем – добро или зло. Но когда опустит веки и лягут длинные черные ресницы, как гребешки на нежной коже, то через это почему-то понимаешь добро в этом мальчике.