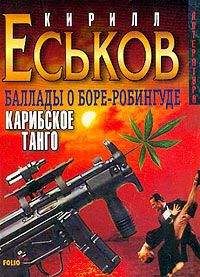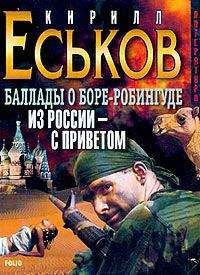Владимир Короленко - Том 8. Статьи, рецензии, очерки
Можно сказать, не боясь ошибиться, что в эти глухие годы только местная печать шевелила, будила, раздражала, сердила и не давала слишком уж зарываться тогдашним хозяевам жизни. Мне вспоминается один случай, когда выведенные из себя постоянным вмешательством прессы местные дворяне сделали попытку удалить с хор земского собрания всю публику, заявляя, что их совесть стеснена и они не могут говорить свободно. Произошло бурное заседание. «Оппозиция» поднялась как один человек, и Гациский, старый земец, говоривший всегда дельно, но довольно вяло, — на этот раз произнес прекрасную речь, полную истинного одушевления. Богданович, много волновавшийся по поводу этой истории, — написал один из лучших своих фельетонов; между прочим в этом бурном собрании произошло не совсем обычное происшествие. Старый дворянин Лик (курсивом), бессменный с давних пор губернский гласный, никогда не открывавший в заседаниях рта, — на этот раз поднялся со своего стула и заявил, что его совесть тоже стеснена и он тоже не может говорить свободно. Отметив с большим юмором этот небывалый эпизод, Богданович прибавил: «Был мрачен лик его печальный». Этот каламбур сопровождал красноречивого дворянина Лику до самой могилы…
В 1890 году Богданович вместе с другим товарищем, доныне работающим в приволжской прессе Л. Л. Дробыш-Дробышевским, переехал в Казань, где оба принимали сначала близкое участие в редактировании «Волжского вестника» (издаваемого тогда Н. В. Рейнгардтом), а затем перешли в новооткрытые «Казанские вести».
Это было время, когда работа в провинциальной прессе являлась настоящим подвигом. Правда, голос печати уже имел большое значение, — относительно, может быть, даже большее, чем теперь, так как газетная трибуна являлась единственной формой прямого обращения к обществу. Номера с какой-нибудь удачной заметкой, выбивавшейся на свет сквозь цензурные ущелья, — ходили по рукам, замусливались и зачитывались в клочки. Официальные сферы провинции были также восприимчивы к тому, что появлялось об них в печати, а стеснения обходились до известной степени тем, что о щекотливых делах, например, Нижегородской губернии — писалось в газете, выходящей в Казани, а казанские злобы находили освещение в Саратове. Однако все эти усердные читатели тогдашней провинциальной газеты подписывались на нее туго: свежий газетный помер еще не вошел тогда в обиход ежедневных обывательских потребностей, и тираж в три тысячи экземпляров считался блестящим. Понятно поэтому, что и труд провинциального публициста оплачивался очень плохо, требуя в то же время огромного напряжения сил. Богданович и Дробышевский составляли и выпускали номера, писали передовые статьи, заметки, библиографические отзывы, Богданович вел еженедельный общественный фельетон. Его псевдоним «Зритель» скоро приобрел известность по всему Среднему Поволжью, а порой некоторые блестки из его фельетонов стали залетать также на столбцы столичной печати. Вообще из него вырабатывался незаурядный фельетонист, и даже в последние годы, когда существование российских журналов становилось проблематическим и непрочным, — он поговаривал часто и не без удовольствия о возможности вернуться к газетному фельетону. За весь этот изумительный труд первое время, если не ошибаюсь, «редакторы» получали рублей по пятидесяти, впоследствии что-то около семидесяти пяти. В одном только эти непритязательные работники были требовательны и неуступчивы до прихотливости. Газета могла говорить не все, но то, что в ней появлялось, должно было точно и полно совпадать с совершенно определенной этической линией. История провинциальной печати того времени полна «протестами» и «коллективными выходами» сотрудников при первых же попытках со стороны издателей к сделкам с совестью, с влиятельными провинциальными воротилами, с местною властию. Тогда «неблагонадежные» сотрудники тотчас же отряхали прах от ног своих и искали нового пристанища…
В 1893 году Богданович оставил провинциальную прессу для столичной. Он переехал в Петербург, привезя с собой превосходное знание провинциальной жизни и огромную работоспособность, приобретенную на ежедневной газетной работе. Здесь в течение почти года он вел хронику внутренней жизни в «Русском богатстве». Статьи его появлялись без подписи, и в них мало сказалась его своеобразная литературная физиономия. Рамки чисто хроникерской работы, казалось, связывали до известной степени прихотливое воображение недавнего провинциального фельетониста. Кроме того, подходила полоса марксизма, которому Богданович отдался с присущей ему страстностью.
С 1894 года он перешел в редакцию журнала «Мир божий», которому и отдавал до конца жизни всю свою поразительную работоспособность и свои незаурядные силы. Работать ему приходилось вместе с Александрой Аркадьевной Давыдовой. Трудно представить себе двух человек с более противоположными темпераментами и вместе — лучше приспособленных для совместного ведения журнального дела. Дама петербургского большого света, сменившая верхи артистического мира на редакционную контору, и бывший поднадзорный студент, резкий, угловатый, часто нелюбезный и иногда слишком прямой, — они скоро поняли и оцепили друг в друге то главное, что было нужно для дела: обоих соединяла глубокая, самоотверженная, трогательная любовь к журналу, его росту, процветанию и моральному значению. Александра Аркадьевна внесла свою женственную мягкость, светский такт и замечательное умение привлекать литературные силы, группировать их и улаживать неизбежные во всяком коллективном деле недоразумения. Богданович дал огромную трудоспособность, знание литературных направлений, умение разобраться в них и свою несколько суровую, но честную прямолинейность… Это было очень счастливое сочетание разнородных качеств, и если Александре Аркадьевне приходилось порой пускать в ход все ресурсы своего дамского такта, чтобы сгладить угловатую прямоту своего сотрудника, то все же она чувствовала, что в лице этого несколько шероховатого человека судьба послала ей настоящий клад. Впоследствии с ростом самого дела разрастались и редакционные силы, привлекались новые сотрудники, вносившие свой труд и свои индивидуальные черты в общее дело. Но все же можно сказать, не боясь преувеличения, что в основу журнала, каким мы его видим теперь, легли первым определяющим моментом усилия этих двух уже отошедших от нас людей…
С этих пор чисто литературная деятельность Богдановича была уже на виду у широкой читающей публики, которая, конечно, помнит ежемесячные общественно-литературные очерки в «Мире божием», подписанные скромными инициалами А. Б., летучие, живые, порой парадоксальные, но всегда проникнутые живой любовью к русской литературе, ее стремлениям и надеждам. Редакции «Мира божьего» и вдове покойного, Татьяне Александровне Богданович, пришла счастливая мысль выпустить хоть часть обозрений Богдановича отдельным изданием, и эти статьи опять появляются перед читателем, а с ними оживает в памяти и своеобразный облик их автора. Я не имел в виду писать критическую статью, и это освобождает меня от обязанности отмечать здесь пункты нашей общности и наших разногласий, перемешанные в изобилии и в этой книге. Задачей моей настоящей заметки было только восстановить хотя бы и неполно личные черты человека, написавшего эту книгу, в том виде, каким я его встретил в глухое время русской жизни, каким мы, его друзья, успели его полюбить и каким он дошел до своей слишком ранней могилы…
27 марта 1907 года, в сумрачный весенний день на Волковом кладбище толпа русских писателей и читателей присутствовала при не совсем обычном зрелище: на русском православном кладбище у свежей могилы стоял католический священник, и раздавались печальные звуки латинского заупокойного напева: «requiem aeternam de ei Domine». Поляка Богдановича хоронили у Литераторских мостков русского Волкова кладбища, так как именно русская литература была настоящей родиной его души. Она дала ему свои радости и напоила своею горечью. Из ее среды он получил также и семью, и короткое личное счастье, она же преждевременно подточила тяжким трудом его силы и привела к могиле… Вокруг раскрытого гроба, в котором виднелось в последний раз худое лицо с сурово обострившимися чертами, высились кресты, памятники и бюсты ранее пришедших товарищей и учителей, русских писателей, принимавших в свою среду нового собрата. Он пришел сюда еще молодым, но уже успевшим много поработать на ниве русской мысли и русского слова, для свободы, солидарности и братства.
Трагедия великого юмориста
Несколько мыслей о Гоголе*
Кто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба… «От удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами… Все неслось, все танцовало…»