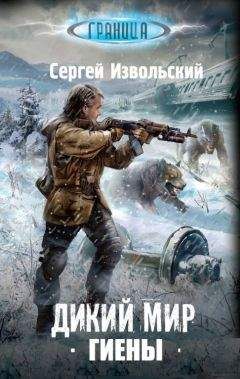Петр Боборыкин - Жертва вечерняя
— Очень бы стоило! В тебе важна чистота инстинктов.
— Ну, уж не подделывайся, Домбрович, — перебила я его. — Кое-что я тебе прочитаю из моей тетрадки, а в роман меня все-таки не смей вставлять. Если тебе нужны будут деньги, а больше ты ничего не придумаешь, я у тебя куплю сюжет.
— По рукам! Но мы удалились от Руссо. Разверни ты эту красную книжку на странице двести тридцать седьмой, так кажется. Руссо тут описывает вторую, по счету, женщину, с которой он был в связи.
Вернувшись домой, я не выпускала из рук книжки Руссо, проглотила почти всю.
И что же? Самые лучшие места — любовные. Какой он там ни был великий мудрец, а все-таки описывает со всеми подробностями свои отношения к женскому полу.
Завтра мы с Капочкой поднимем такую возню! Я придумала явиться всем в костюмах. От сочинителя потребовала, чтобы он был одет пьеро. С его длинной фигурой будет очень смешно.
Костюм свой я приготовила в Толмазовом переулке и сниму его после ужина.
Ариша опять бы мне сделала чувствительную сцену, если б я явилась перед ней в виде нимфы. Домбрович сам мне нарисовал…
Да, завтра у нас пойдет "дым коромыслом". Это — выражение моей прелестной плясуньи. Я ее обожаю!
3 апреля 186*
Воскресенье
Срам! Ужас! Ах я окаянная!
Не могу писать…
Нет, я должна все рассказать, от слова до слова.
Боже мой, как я страдаю!
Вот как было дело. После обеда я легла спать, готовилась к ночи… В половине девятого я послала за каретой и поехала в Толмазов переулок. Туда был принесен мой костюм. Домбрович меня дожидался. Мы с ним немножко поболтали; он поправил мою куафюру на греческий манер. В начале десятого мы уже были на дворе нашей обители. Порядок был все тот же. Мы сейчас отослали извощика. Когда я посылаю Семена нанимать карету, я ему говорю, чтоб он брал каждый раз нового извощика и на разных биржах.
Поднялись мы по лестнице. Домбрович говорит мне:
— У тебя ключ, отопри.
Он мне, недели две тому назад, дал ключ на всякий случай и сказал мне еще тогда:
— Я иногда бываю рассеян; а у вас, женщин, память лучше. Береги его.
Я сунула руку в карман платья: ключа не было.
— Забыла? — спрашивает Домбрович.
Вспомнила я тут же, что оставила его на туалетном столике, когда Ариша чесала мне голову.
— Что делать? — прошептала я. Возвращаться нам не хотелось.
— Я позвоню, — сказал Домбрович. — Кто-нибудь там уже есть. Они догадаются.
Он позвонил тихо, два раза.
Отпер нам le beau brun. Я очень обрадовалась, что Капочка тут, и бросилась в ее келью.
Одевание было продолжительное. Капочка восхитилась моим костюмом. Она сама была одета баядеркой в тигровой коже и с венком из виноградных листьев. Я ее упросила надеть как можно меньше тюник, как в Париже… она согласилась.
Мой костюм был греческий, style pur,[193] как выразился Домбрович: руки все обнажены, с широкими браслетами под самые мышки, тюника и péplum полупрозрачная. Одно плечо совсем открыто, сбоку разрез до колена. Я надела даже сандалии из золотых тесемок.
Когда я стала перед трюмо, Капочка пришла в неистовый восторг… Я действительно была хороша.
Не было конца нашему вранью. Мы с ней нежничали, точно влюбленные… В одиннадцать часов собрались мы все в залу. Маскарад удался как нельзя лучше. Все мужчины были шуты гороховые: Домбрович — пьеро, Борис Сучков — паяцем, граф — диким (un sauvage), Шварц — чертом и Володской — Бахусом. Бахус вышел неподражаем.
Из женщин одна только немка Шпис имела глупость явиться бержеркой: избитый и скучнейший костюм. Додо Рыбинская была одета в восточный наряд, а Варкулова — маркизой с таким лифом, какой носили при Людовике XV.
Все так были рады, что мне пришла идея затеять такой souper-costume.[194] Во всех нас вселился бес: за чаем мы уже бесновались не меньше, чем за ужинами прошлые разы.
Капочка была чистая вакханка. Она выделывала Бог знает какие вещи.
Музыка, пенье, пляс — все это шло колесом. Я двигалась, болтала, пела в каком-то чаду.
Ужинать мы сели раньше обыкновенного. Пели мы все хором. Мужчины предлагали невозможные тосты.
Ужин перешел в настоящую оргию. И я всех превзошла! Во мне не осталось ни капли стыдливости. Я была как какая-нибудь бесноватая. Что я делала, Боже мой, что я говорила! Половину я не помню теперь; но если б и вспомнила, я не в состоянии записать этого.
Сквозь винные пары (шампанского мы ужасно выпили) раздавался шумный хохот мужчин, крики, взвизгиванья, истерический какой-то смех, и во всей комнате чад, чад, чад!
Нет, я не могу кончить этой сцены, этой адской сцены…
И вдруг, прижимаясь к Капочке, сквозь какую-то пелену я вижу посредине комнаты, в двух шагах от меня, фигуру в черном. Я приподняла голову, всмотрелась. Близорукие мои глаза плохо разбирали предметы…
Я обомлела и сейчас же почувствовала, что вся кровь прилила к сердцу.
Черная фигура был Степа!
Я так и осталась в объятиях Капочки и, как безумная, уставила на него тупой взгляд.
Он тоже, бледный как смерть, стоял, нагнувшись. Губы его даже побелели и дрожали. Я без всякой мысли осматривала его лицо, бороду, которой у него прежде не было, короткую визитку, сапоги… В одной руке он держал белый фуляр, ь другой меховую шапку.
Это продолжалось несколько секунд.
Он точно спал с неба, никто его не заметил…
После столбняка я вдруг вскочила, как ужаленная, и оттолкнула вакханку, так что она повалилась на диван.
Я со злостью бросилась на него и, задыхаясь, прошептала:
— Зачем ты здесь! Ступай вон!
Музыка прекратилась. Я ни на кого не обращала внимания; но в эту минуту все, верно, оглянулись на нас.
Степа судорожно взял меня за руку.
— Маша! — вырвалось у него. Звук этого слова так меня и пронзил. Я испугалась, как-то вся съежилась, сама схватила его за обе руки. Сердца у меня точно совсем не было в эту минуту. И такой стыд вдруг обдал всю меня, что я готова была броситься куда-нибудь под диван, под стол…
Предложи мне тогда умереть, сейчас же, в один миг, я бросилась бы на смерть, как на спасение.
Больше ни я, ни он не промолвили ни одного звука. Он меня вывел в переднюю. Я сама нашла свой салоп и башлык. Он свел меня вниз, кликнул карету, посадил меня и сам сел рядом.
Холодный воздух пахнул мне в лицо. Я вся простыла; но губы мои точно что сковало. И какая-то вдруг тупая злость поднялась на сердце. Злость и страх. Я почувствовала себя в этой карете точно в клетке, в каменном мешке, в могиле. Я была преступница, пойманная на месте преступления. Мне представлялись впереди: казнь, позор. Этот человек сидел тут рядом, как полицейский сыщик. Одну минуту я его страшно ненавидела. Как перед Богом, я способна была кинуться на него, будь у меня в руках хоть что-нибудь! Я схватилась даже за ручку кареты и хотела выпрыгнуть, хоть я и видела, что мы ехали по Английскому проспекту, к моей квартире.
"Что нужно ему от меня? — вертелось у меня в голове. — Как он смел явиться туда, с какого права сделал он меня своей пленницей?"
Ехали мы очень шибко. Наше молчание давило меня. Он сидел, отвернувши свое лицо от меня. Я видела его затылок и меховую шапку.
Когда мы совсем уже подъезжали, вдруг я почувствовала то самое щекотание, те самые мурашки, как в кабинете Домбровича… Вспомнились мне сейчас нянька Настасья и винные ягоды, детские слезы и розги. Я размякла, я захотела, чтоб меня кто-нибудь сейчас же наказал.
— Что ж ты молчишь? — закричала я. — Говори что-нибудь!
Прошло еще секунды две, три, он не отвечал.
Потом он вдруг опустился вниз, упал руками и головой на мои колени. Мои колени чувствовали, что он весь трясется.
— Маша моя, Маша! Что ты с собой сделала!
Он громко зарыдал. Карета остановилась.
КНИГА ТРЕТЬЯ
8 апреля 186*
Днем. — Пятница
Вчера я только что встала с постели. Не знаю, что уж со мною было. Дня три я лежала в забытьи.
В первый день, когда мне стало легче, входит Ариша и говорит:
— Степан Николаевич просит позволения войти.
Я обрадовалась. Может быть, я не приняла бы его, если бы хорошенько все поняла, что со мной случилось.
Степа вошел сконфуженный, точно не смея поднять на меня глаза. Он присел к кровати, и мы несколько минут промолчали.
Мне было так стыдно, что я даже отвернулась в другую сторону.
Но с ним нельзя долго оставаться так. Я чувствовала, что Степа все такой же добрый… Я протянула ему руку. Он бросился ее целовать.
— Прости меня, Маша, — шептал он. — Я тебя уложил в кровать. Третьего дня ты была очень плоха…
Он чуть-чуть не плакал.
Я приподнялась на кровати и, держа его за обе руки, начала рассматривать. Он немного постарел, немного пополнел; но все такой же моложавый, с тем же большим лбом и маленьким носом и прической под гребенку, только отпустил себе редкую, жидкую бородку. Добрые его глаза смотрели на меня с такой тихой и снисходительной любовью, что вся моя болезненная тягость, всякое ощущение страха и неприятного стыда, все это прошло.