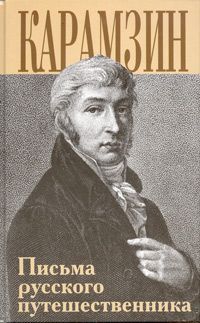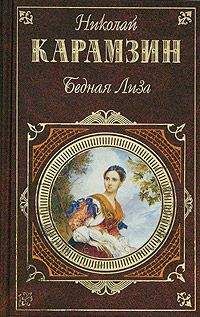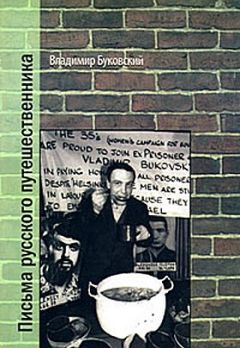Николай Карамзин - Письма русского путешественника
Как ясно было небо, так ясна была душа моя. Я видел везде благоденствие, счастье и мир. Птички, которые порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, изображали для меня веселье и беспечность. Они чувствуют бытие свое и наслаждаются им! Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с избытком все то, что потребно человеку. «Он здоров трудами, – думал я, – весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружен мирным семейством, сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желания, все его надежды ограничиваются обширностью его полей; цветут поля, цветет душа его». – Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою пастушкою.{61} «Она спешит к своему пастуху, – думал я, – который ожидает ее под тенью каштанового дерева, там, на правой стороне, близ виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встает и видит любезную, которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он навстречу к ней! Пастушка улыбается; идет скорее, скорее – и бросается в отверстые объятия милого своего пастуха». – Потом видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева. Они целовались, как нежные горлицы.
Я сел на дороге и дождался почтовой коляски. У меня было довольно товарищей; между прочими магистер, или деревенский проповедник, в рыжем парике, и двое молодых студентов, лейпцигский и прагский, который сидел подле меня и тотчас вступил со мною в разговор, – о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом «Федоне»,{62} о душе и теле. «„Федон“, – сказал он, – есть, может быть, самое остроумнейшее философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов!» – «Надобно искать его в сердце», – сказал я. – «О государь мой! – возразил студент.{63} – Сердечное уверение не есть еще философическое уверение: оно ненадежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства – на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные, необходимые истины. Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но…» – Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее:
«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно потому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются». – «Прекрасно! – сказал студент. – Прекрасно! Но если думает он, что…» Тут коляска остановилась: шафнер отворил дверцы и сказал: «Госпожи и господа! Извольте обедать».
Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, за что взяли после с каждого копеек по сорок.
Дорога до самого Мейсена очень приятна. Земля везде наилучшим образом обработана. Виноградные сады, которые сперва видны были в отдалении, подходят ближе к Эльбе, и наконец только одна дорога отделяет их от реки. Тут стоят перпендикулярно огромные гранитные скалы. Некоторые из них – чего не делает трудолюбие! – покрыты землею и превращены в сады, в которых родится лучший саксонский виноград. – На другой стороне Эльбы представляются развалины разбойничьих замков. Там гнездятся ныне летучие мыши, свистят и воют ветры.
Один древний поэт сказал:{64}
Est locus, Albiacis ubi Misna rigatur ab undis,
Fertilis et viridi totus amoenus humo.[73]
В этом месте теперь я. – Мейсен лежит частию на горе, частию в долине. Окрестности прекрасны; только город сам по себе очень некрасив. Улицы не ровны и не прямы; дома все готические и показывают странный вкус прошедших веков. Главная церковь есть большое здание, почтенное своею древностию. Старый дворец возвышается на горе. Некогда воспитывались там герои от племени Виттекиндова (сего славного саксонского князя, который столь храбро защищал свободу своего отечества и которого Карл Великий победил не оружием, а великодушием своим). Ныне в сем дворце делают славный саксонский фарфор. Чтобы видеть фабрику, надобно выпросить билет у главного надзирателя.
Господин Маттей был несколько лет директором здешней школы; но недель за шесть перед сим оставил Мейсен и уехал в Виттенберг. Ему, конечно, везде дадут место. Он считается в Германии одним из лучших филологов.
Надобно садиться в коляску и проститься с пером до Лейпцига.
Лейпциг, июля 14
Дорога от Мейсена идет сперва по берегу Эльбы. Река, кроткая и величественная в своем течении, журчит на правой стороне, а на левой возвышаются скалы, увенчанные зеленым кустарником, из-за которого в разных местах показываются седые, мшистые камни.
Отъехав от Мейсена с полмили, вышли мы с прагским студентом из коляски, которая ехала очень тихо, и версты две шли пешком. После вопроса: женат ли я? – студент мой начал говорить о женщинах, и притом не в похвалу их. «На гробе друга моего, – сказал он, – друга, который пошел в землю от несчастной любви к одной ветреной, легкомысленной женщине, клялся я удаляться от этого опасного для нас пола и вечно быть холостым. Науки занимают всю мою душу – и, благодаря бога! могу быть счастлив сам собою». – «Тем лучше для вас», – сказал я.
Стали находить облака, и мы сели опять в коляску. Тут магистер шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистер брался все решить, но, по мнению студента, не решил ничего. Это его очень сердило. «Наконец, я должен вспомнить, – сказал он, потирая рукою свой красный лоб, – что некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить нельзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может и от которого все отпрыгивает…» – «И такие головы, – прервал студент, – часто бывают покрыты рыжими париками и торчат на кафедрах». – «Государь мой! – закричал магистер, поправив свой парик, – о ком вы говорите?» – «О тех людях, о которых вы сами говорить начали», – спокойно отвечал студент. «Лучше замолчать», – сказал магистер. – «Как вам угодно», – отвечал студент.
Между тем наступила ночь. Магистер снял с себя парик, положил его подле себя, надел на голову колпак и начал петь вечерние молитвы нестройным, диким голосом. Лейпцигский студент тотчас пристал к нему, и они, как добрые ослы, затянули такое дуо, что надобно было зажать уши. – К счастию, певцы скоро унялись; в коляске все замолкло, иязаснул.
На рассвете остановились мы переменять лошадей, и, когда стали выходить из коляски, чтобы идти в трактир пить кофе, магистер хватился своего парика, искал его подле себя и на земле и, не могши найти, поднял крик и вопль: «Куда он девался? Как мне быть без него? Как я, бедный, покажусь в городе?» Он приступил к шафнеру и требовал, чтобы парик его непременно был отыскан. Шафнер искал и не находил. Лейпцигский студент тирански смеялся над горестию бедного магистера и наконец, как будто бы сжалясь над ним, советовал ему поискать у себя в карманах. «Чего тут искать?» – сказал он, однако ж опустил руку в карман своего кафтана и – вытащил парик. Какая минута для живописца! Магистер от внезапной радости разинул рот, держал парик перед собою и не мог сказать ни одного слова. «Вы ищете за милю того, что у вас под носом», – сказал ему шафнер с сердцем; но душа магистерова была в сию минуту так полна, что ничто извне не могло войти в нее, и шафнерова риторическая фигура проскочила если не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовою гипотезою{65} о происхождении идей) не тронув в его мозгу никакой новой или девственной фибры (fibre vierge). Конечно, долее минуты продолжалось его безмолвное восхищение. Наконец он засмеялся и, надевая на себя парик, уверял нас, что он, магистер, не клал его в карман; а как парик зашел туда, о том ведает сатана и… Тут взглянул он на лейпцигского студента и замолчал.
Без всяких дальнейших приключений доехали мы до Лейпцига.
Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность: сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! – Но судьба не хотела исполнить моего желания.
Воображая, как бы я мог провести те лета, в которые, так сказать, образуется душа наша, и как я провел их, чувствую горечь в сердце и слезы в глазах. – Нельзя возвратить потерянного! —