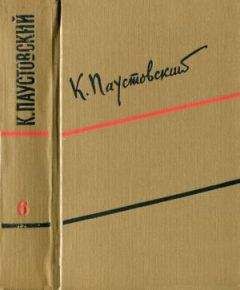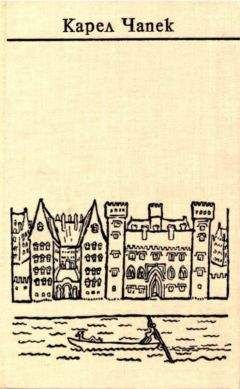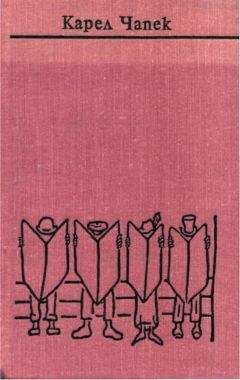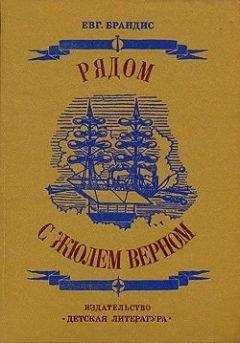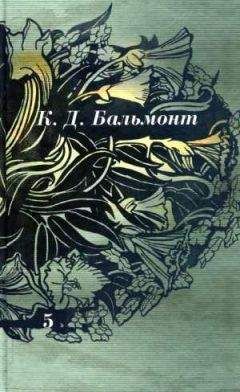Константин Бальмонт - Том 6. Статьи, очерки, путевые заметки
1
Едва она руки разнимет,
Едва она друга обнимет,
Как будто в Арабии я,
Плывет благовоний струя.
2
Ее поцелую,
Мне губы протянет она, –
И весь я ликую,
И пьян без вина.
3
Час наступил приготовить постель,
Тонким ее устели полотном.
Сладкий любовный вкусим мы хмель,
Сладко вдвоем.
Нежная, нежная в чарах любви.
Нежная, нежной ее назови,
Нежная в чарах любви меж мужчин,
Властная в чарах любви между жен.
Царская дочь, цвет весенних долин,
Ласка, любовь, осененность, и сон.
Между красивых, красивой такой
Не было, нет, и не будет другой.
Волосы черны, чернее, чем ночь,
Ягод чернее терновых кустов,
Светит очам белизною зубов,
Губы – как красная яшма плодов.
Царственно-светлая, царская дочь,
Груди ее – два венка,
Нежно лилейна рука.
Между желанных, желанной такой
Нет и не будет другой.
Египетская горлица
На кровле горлица зовет: –
«Земля светла. Уж день плывет».
Нет птица, не зови: –
Идти ли от любви?
Египетская песенкаНевзыскательна хижина Египетского земледельца, феллаха, такая же она – как 8 ООО лет тому назад, – малый клетушок, где едва можно приютиться. Тесно и грязно, скудно и бедно. Но около хижин – возделанное поле, которое он любит и которое его кормит, а на кровле хижины неумолчно воркуют, под жаркими лучами Египетского солнца, влюбленные в жизнь горлицы. Голуби-горлицы. Птица с весьма богатым символическим означением. Посвященная богине любви, эта птица есть и крылатый знак Духа, который веет по всему Мирозданию, от пределов до пределов, и за его зримыми пределами.
Голуби-горлицы. Мне, Русскому, сладостно слышать два эти слова. Я знаю, что так именуют себя, и друг друга, вдохновенные песнопевцы Радений Белых Голубей, чьи экстатические песни и напевные всклики образуют целую сокровищницу в области Русской Народной Песни, где в причудливой и красочной смене исступленная влюбленность тела переплетается с влюбленным просветлением души. Белые голуби, душевные состояния которых чрезвычайно родственны мистическим состояниям всех экстатических сект, без различия веков и народностей.
Не странно ли прозвучат мои слова, если я скажу, что напевности, подобные тем, которые составляют принадлежность Радений Белых Голубей, и которые я попытался ввести в область литературного стиха в моей книге «Зеленый Вертоград», раздавались на берегах Нила многие тысячи лет тому назад? Между тем это так. И доказательства – налицо, в виде необманных папирусов, которые достодолжным образом расшифрованы и отдали желающему свои словесные сокровища, замкнутые в иероглифические ларцы.
Говоря о Египте, мы заранее склонны видеть в Египтянах лишь неустанных молельников, заботящихся о построении храмов и созидании гробниц. Но воистину там умели целоваться. Папирусы опять об этом говорят. И с тоскою любовной нередко говорили они о разлуке смертельной – совсем как мы. Вот, например, воркованье печальное одной из тех, что была близка к Посвященным.
Загробный зов мемфисской жрицы– О, мой брат, о, мой друг, о, супруг мой, не уставая осушай чашу радости, не переставай любить и праздновать. Следуй всегда за желанием своим, и никогда не дозволяй печали войти в твое сердце, пока ты на Земле.
Ибо Аменти – страна тяжелого сна и сумраков, жилище траура для тех, кто пребывает там. Они спят там в своих бестелесных обликах. Они не пробуждаются, чтоб увидеть братьев своих, они более не узнают отца и мать, сердце их не устремляется с волнением к супруге их и к детям их.
Каждый на Земле насыщается водою живого, только я исполнена жажды. Вода приходит к тем, кто живет на Земле, – там, где я, сама вода дает мне жажду. С тех пор, как вошла я в эту страну, я более не знаю, где я. Я плачу о воде, что брызжет там вверху. Я тоскую о ветре, дышащем на берегу Реки. Если б лицо мое было обращено на Север, если б воды мне проточной, чтоб освежить мое сердце в печали его! Ибо здесь – пребывание бога, чье имя – Всесмерть.
Призывает он всех к себе. И приходят ему подчиниться все, трепеща перед гневом его. Что ему боги, и что ему люди, равны перед ним и великие, и малые. Каждый трепещет его умолять, ибо он не слушает. Никто не подходит ему возносить восхваления, ибо нет у него благоволения к тем, кто его обожает. Какое б ему ни принес приношение, он не глядит. –
В этой надгробной надписи Мемфисской жрицы как бы звучит самоупрек, что в жизни недостаточно она жила, недостаточно любила и наслаждалась. Сожаление о сладком даре жизни и любви. И неприхотливые народные песенки, где перемешаны шутка, любовь, и ласка, дошедшие до нас, в малости, среди Египетских свитков, показывают, что Египтянин и Египтянка, связанные обоюдною влюбленностью, умели ценить этот сладкий дар, крепко держали его в руках, хотя и перебрасывались им в свои светлые часы, как распроказничавшиеся дети перебрасываются в саду румяным душистым яблоком, сорванным с ветки без спроса у старших.
Брат мой, сестра моя, – говорят влюбленные Египтяне друг другу. Первобытные люди всегда в любви улавливают родство. Ты мне нравишься – значит, ты сестра. Я поцеловал тебя – как же я тебе не брат?
Влюбленный рисует свою возлюбленную, вернее – вздыхает о ней, а она перед нами – как нарисованная.
Пойман, пойман я в силок.
Рот сестры моей – цветок.
Руки – ветви, вот достанут,
И заманят, и обманут.
Грудь – пьянящий аромат,
Чуть дохнул, – нельзя назад.
Птица вольная я был,
До тех пор как полюбил.
Птица дикая летала,
Крыльев легких вдруг не стало.
Ароматом сражена,
В западне теперь она.
Если влюбленный брат говорит про западню, влюбленная сестра, говоря, прибегает к тому же образу, лишь меняя слова, и с женской уклончивостью и косвенным означением, изъясняется так:
Поймала птицу западня,
В сетях трепещет птичье тело.
Но держишь ты, любовь, меня.
И видишь, птица улетела.
Ну, что же, сети я сложу,
Пойду домой я без добычи.
А что же матери скажу,
На двор что принесу я птичий?
Как нынче ставить мне силок?
И птицу как подстерегу я?
Обняв, припал ко мне дружок,
И оторваться не могу я.
Она от него, он от нее. Полюбили – друг в друге запутались и потерялись. Это как в лесу или в саду. Но так как женщине более свойственно удерживать и околдовывать того, кто к ней приблизился и кто ей мил, сестра применяет все свойственные ее естеству чары, создавая сладкий дурман, и с ласковой угрозой предупреждает своего друга:
Если сладкая истома
Недостаточна тебе,
Если я к тебе влекома
В муке, в боли и в борьбе, –
Я сорву цветочек дикий,
И тебя, цветком маня,
Отуманю, – светлоликий,
Не покинешь ты меня.
Пожалуй, и цветочка не нужно. Дурман страсти достаточно держит. А брат так очарован своей темноглазою сестрой, что все готов он сделать, лишь бы к ней приблизиться, всем готов быть, лишь бы с ней не расставаться, быть ее слугой, ее собственностью, ее вещью, ее тенью, малым знаком бытия, к которому она обратилась душой и глазами.
Влюбленные везде одинаковы, и как часто похожи они друг на друга на самых разъединенных концах вечно-любящей и вечно-зеленеющей Земли. Пламецветы цветут и в Египте и в Мексике, лотосы раскрываются и в Египте и в Индии, гвоздика краснеет и в Испании и в России, желтые цветики, отблистав, разлетаются седыми одуванчиками и в странах, где звучат протяжные песни Славянские, и в странах, где проходят тени Миннезингеров.
Горячий Испанец, когда он влюблен, чем бы он только не хотел быть, лишь бы приблизиться к желанной? Испанские народные песни, гитарно, перекликаются и возвещают:
В том доме, где ты, мое счастье,
Колодцем хотел бы я быть:
Я губы твои целовал бы,
Когда ты захочешь испить.
Как солнечный луч я хотел бы
В окошко твое заблестеть,
Чулки, башмаченки, и юбку
Помог бы тебе я надеть.
Кому то достанется счастье,
Которым свеча обладает: –
Погаснув, она остается
Так близко, где ты.
Если б я рожден был мавританкой,
Если бы в Археле был я мавром,
Был бы Магомету я отступник,
Прочь бежал бы, прочь, туда, где ты,
Если я родился василиском,
Я тебя бы взором умертвил,
Чтоб тебя совсем отнять у мира,
Чтоб тебя никто в нем не любил.
Если в Ад пойдешь ты,
Я пойду с тобой;
Если ты со мною,
Всюду рай со мной.
И наконец, еще: