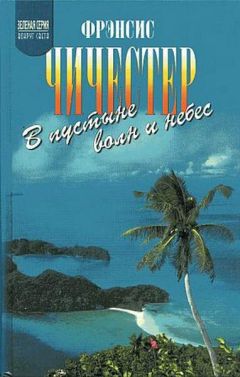Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Сразу после того, как чтение закончилось (Гумилев читал, Иванов, Оцуп и некто Нельдихен - в артистической куртке, с длинными волосами, декоративный с великолепным голосом), Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали два стакана в подстаканниках и пирожные. ("Покойник был скупенок, - говорил мне впоследствии Г.Иванов, - когда я увидел, что он угощает вас пирожными, я подумал, что дело не чисто".) Никто не подошел к нам. Мы сидели одни, в углу большой гостиной, и я догадывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается: субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил:
- Необходима дисциплина. Я здесь - ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке!
Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой, с важностью сверлящий меня. - Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас.
Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что все это говорится всерьез. Между тем, голос его звучал сухо, и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. Напрасно, мне казалось, он думает, что в Цехе есть что-то военное, на роту или взвод это отнюдь не было похоже, члены Цеха скорее напоминали (в их отношении к главе Цеха) петиметров и куртизанов в свите одного из Людовиков.
- Я - монархист. Крещусь на церкви. Если будете делать то, что я вам буду приказывать, из вас может выйти поэт... Но для этого нужно перестать любить Виктора Гофмана.
Тут я вдруг рассмеялась. Мне показалось, что было еще немножко рано приказывать мне, кого любить и кого не любить. Он сердито взглянул на меня и тем же жестким тоном не сказал, а как бы "объявил в приказе" о моем лице и ногах.
Теперь неловкость стала во мне переходить в окаменение. Ноги свои я задвинула под диван, руки спрятала под стол, только лицо мое было повернуто к нему, вероятно, в глазах была просьба: повернуть все это в шутку. Но он этого не замечал.
Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять:
- У меня студия в Доме Искусств. Там я учу молодых поэтов (он выговаривал поатов) писать стихи. Я научу вас писать стихи. Вы писать стихи не умеете.
- Спасибо, Николай Степанович, - сказала я тихо, - я непременно поступлю к вам в студию.
- Кто ваш любимый поэт? - внезапно вылаял он. Я молчала: мне не хотелось лгать, это был не он. Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережным. Он, с тех пор как вернулся в Петербург, все ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в Летнем саду, в три часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели.
- Может быть, послезавтра?
- Завтра, в три часа.
Я встала, подала ему руку. Он проводил меня до дверей.
Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. Колбасьев пошел провожать меня. Он рассказывал, как они с Гумилевым встретились и подружились в Крыму. Я не могла никак понять, почему все, что он говорил, пока мы шли по Литейному, было мне совершенно неинтересно.
На следующий день я была у урны в три часа.
Мы сначала долго сидели на скамейке и мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом, и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал, только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о Союзе поэтов и Цехе, и все было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса, и по дороге он спросил, есть ли у меня "Кипарисовый ларец" Анненского, Кузмин. последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анненского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг пять-шесть, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран "Кипарисовый ларец". Смутное подозрение шевельнулось во мне, но, конечно, я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, нежаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес:
- Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу.
- Конечно, нет, - ответила я.
Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги.
- Я купил их для вас.
Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анненского на секунду помрачила мой рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка.
- У меня эти книги все есть, - продолжал он настойчиво и сердито, - я их выбрал для вас.
- Не могу, - сказала я, отвернувшись. Все мои молодые принципы вдруг, как фейерверк, взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовала, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу.
И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула, свистнули мальчишки. Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них и топили их. Мы медленно пошли дальше.
Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на Миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30 июля, мы пошли с ним вместе во "Всемирную литературу", где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев подписал ее. Она теперь в моем архиве.
Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад, и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней, кофейня была в подвале. Там мы пили кофе и ели пирожные и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. Вспоминаю, как позже, в Берлине, однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Р.О.Якобсоном, который тоже косит. Всем было очень весело, и P.O., сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: "В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый - у меня главный, он на вас смотрит!.." Но в Гумилеве не было юмора, он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр.
И тогда он вдруг мне сказал, в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера (оно было сшито из старой занавески). Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому собору и там в колоннаде долго ходили, а потом сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом Искусств, где он живет, но я не пошла, а пошла домой, обещав ему прийти в "Звучащую раковину" (его студию) на следующий день, в три часа. Там он учил, как писать стихи (что так раздражало Блока). Студисты учились у него всю прошлую зиму (1920-1921 года) и теперь "научились писать". И вы научитесь, добавил он, если будете меня слушаться.
Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.
- Нет, - сказал он, когда я отступила, - вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я - гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.
Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.
Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов.
Гумилев ценил его и принял его в Союз в тот же день, что и меня.
Студия помещалась в Доме Искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол, мы все сели вокруг него. Читали стихи "по кругу", как тогда было принято. Были две сестры Наппельбаум, были Н.Сурина, А.Федорова (позже жена Вагинова), Вера Лурье, Ольга Зив (впоследствии - детская писательница), К.Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский - все те, которые изображены на групповой фотографии, вокруг Гумилева - снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. (Первая была женой М.Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году.) Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике "Звучащая раковина", до библиотек западного мира не дошедшем. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву, - вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу.