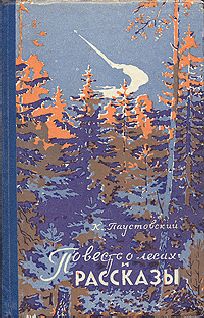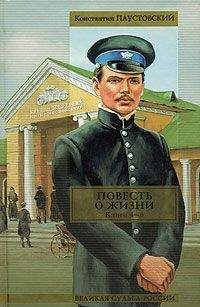Константин Паустовский - Повесть о лесах
В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.
Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.
- Откройте, - сказала Анфиса. - Я к Петру Максимовичу.
- Тяните дверь к себе, - ответил глухой голос.
Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.
- Петр Максимович! - вскрикнула Анфиса. - Да разве вы в Ленинграде?
- Не вижу кто, - сказал Петр Максимович. - Кто вы такая?
- Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.
- Пойдемте, - сказал Петр Максимович. - Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться - безбожно задыхаюсь... Я рад. Очень рад!
Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.
- Тут у нас тепло, - сказал Петр Максимович. - Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.
Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.
- А я не уехал, - сказал Петр Максимович. - Заболел крупозным воспалением легких и так и остался, представьте себе!.. Я вас совсем не вижу.
Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.
- Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте... Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.
Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.
- Так, - сказал он. - Значит, вы живете у Леонтьева. Жаль.
- Почему?
- Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.
Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.
- Золото! - засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. - Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.
- Какие семена?
- Быстрорастущих деревьев. Здесь, - Петр Максимович показал на ящики, - весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.
Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар.
- Всё по Васильевскому! - заметил Петр Максимович. - С утра палят и палят.
Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.
- Представьте себе, - сознался он, - я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.
Он закурил, весь окутался дымом и спросил:
- Вы терпеливая?
- Очень.
- Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слова молвить.
Он помолчал.
- Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы... И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.
- То есть как? - удивленно спросила Анфиса.
- Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.
- Леса? - спросила Анфиса.
- Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода.
- Ну что вы! - сказала Анфиса.
- Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.
В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:
- А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!
- Вам очень, должно быть, трудно, - заметила Анфиса.
- Нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше всё ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите... - она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле, - слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках! Хоть и топим, а холодно... Да они все, старики, такие! - неожиданно заключила Полина Максимовна. - Про семена Петр Максимович вам рассказывал?
- Рассказывал.
- Тут семена есть наши, древесные, - почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна, - а вон те, в той комнате, - это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли... А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!
- Не удержалась? - спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!
Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.
- Я никому не скажу, Петр Максимович, - сказала Анфиса. - Поверьте мне.
- Я знаю, - ответил Петр Максимович и открыл глаза. - Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась... Полина, - сказал он погромче, - не волнуйся, милая! Вскипяти нам лучше водицы... Так вот, - Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался и он совсем не засыпал, - минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья, - он показал на цинковые ящики, - пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое "гонкое" дерево, растет со сказочной быстротой - по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.
- Петя, - сказала из соседней комнаты Полина Максимовна, - да не мучь ты ее, ради бога, своими лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.
- Ничего, она будущая жена лесовода. Ей это нужно знать.
Анфиса напилась кипятку с кусочком сахару, разрумянилась и повеселела.
Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.