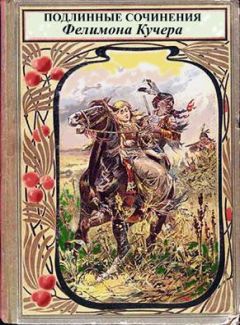Андрей Платонов - Том 4. Счастливая Москва
Затем они пошли далее — в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.
6
Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.
Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни простого счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене — самое беспомощное, бедное и вечное чувство.
Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.
— Есть у вас новости? — спросил Суфьян, прощаясь.
— Нет, жизнь идет одинаково, — ответил Черкезов. — Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.
— Отчего утонула твоя достойная Гюн?
— Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.
— Я беден, — сказал Суфьян, — ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.
— Все равно, — согласился Молла Черкезов. — Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.
— Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.
— Четыре человека приезжали раньше Назара, — сообщил Черкезов. — Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело — тьма, мне хорошо не будет.
— Тебе хорошо далее от ослицы и от старухи, — сказал здесь Чагатаев. — Твое счастье похоже на горе.
— С женой время идет незаметно, — ответил Молла Черкезов.
Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках, — для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью, — вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.
— Отпусти со мною твою дочь! — попросил Чагатаев у хозяина.
— Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? — сказал Молла Черкезов.
— Я приведу тебе старую, другую.
— Приводи скорее, — согласился Черкезов.
Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими, глазами, пугаясь и не понимая.
— Пойдем со мною, — сказал ей Чагатаев.
Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.
— Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет? — обратился Чагатаев к старику.
— Одинаково, — ответил Суфьян.
Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.
Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.
Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах, была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..
Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.
Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.
Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.
7
Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядывалась вокруг и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной.
Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и, когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала Потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.
— Проснись скорее! — сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.
Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.
— Не надо: ведь ты моя мать, — сказал Чагатаев.
Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.
Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.
Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, — ей нужно начинать жить сначала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.