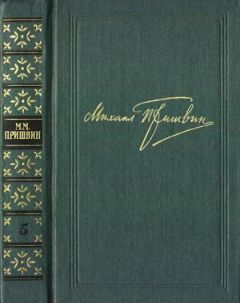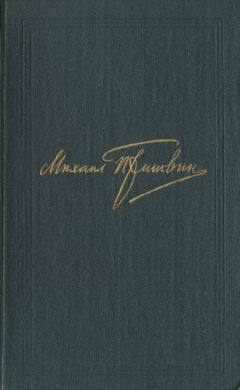Влас Дорошевич - Литераторы и общественные деятели
Бебель говорит:
— Культура при помощи успехов техники, сумеет сделать так, что отвратительных, грязных, вредных, а потому и унизительных работ не будет совсем. Она сделает всякую, самую грязную теперь, работу чистой, безвредной, лёгкой и приятной. И чистить выгребную яму будет таким же лёгким и приятным делом, как всякое другое.
Воображению рисуется прямо идиллия.
— Пойдёмте чистить выгребную яму! — предлагает Франц Амалии, как теперь он предлагает:
— Пойдёмте играть в теннис!
— Ах, какая счастливая мысль! — радостно всплёскивает руками Амалия. — Какой восторг! Я давно не чистила выгребных ям! Мама, мама! Я иду с Францем чистить выгребную яму!
— Надень, в таком случае, чистые воротничок и рукавчики! — говорит мать, нежно глядя на радостно оживившуюся дочь. — Нельзя на такую работу идти замарашкой! Там будет вся молодёжь.
Может быть, так оно и будет…
Но теперь это вызывает улыбку. Быть может, такую же, какой улыбнулся бы мой дед, если б ему сказать:
— Из Москвы можно будет разговаривать с человеком, живущим в Петербурге.
— Как?
— По проволоке!
Это прибавило бы старичку ещё больше веселья.
И так Толстой говорит:
— Культура немыслима без принудительных, неприятных работ. Принудительные работы — рабство. Долой культуру!
Бебель говорит:
— Культура сумеет уничтожить неприятные работы! Да здравствует и развивается культура!
И вы спрашиваете у Толстого:
— Как лучше устроить культурную жизнь?
С его точки зрения, вы спрашиваете:
— Какие бы новые выдумать формы рабства?
Вы ждёте совета?
Ответа? И ответа, который бы вас удовлетворил? Который бы вам помог?
У Толстого спрашивают:
— Что он думает о войне?
И потом ужасно недовольны его ответом.
Человек считает что-нибудь преступлением. Справедливо, нет, — вопрос другого сорта. Но он убеждён:
— Это преступление.
И его спрашивают:
— А что, если преступление совершит Иван Иванович, — что это будет?
— Преступление.
— А если Пётр Петрович?
Что он может ответить?
— Тоже преступление!
— Но позвольте! Как же? Пётр Петрович ведь вам родственник, и даже близкий?!
Это у дикаря спросили:
— Что такое добро и зло?
И дикарь ответил:
— Если меня отколотят, это — зло. Если я отколочу, это — добро.
Так ведь то дикарь.
У Толстого надо заранее предполагать другую логику.
К Толстому приступают, и даже по телеграфу:
— Какую форму государственного устройства вы считаете лучшей?
Представьте себе, что к атеисту кто-нибудь обратился бы за советом:
— Как лучше достигнуть вечного блаженства в загробной жизни?
Да ведь он не верит в самое существование этой жизни.
Толстой отрицает государство.
По его мнению, это такая форма общежития, которая и служит источником многих зол.
Прав он, не прав, — другой вопрос. Но он так думает.
Как же вы спросите человека:
— Как прочнее устроить то, что вы считаете злом?
Самым забавным вопросом является вопрос Толстому:
— О способах борьбы для лучшего устройства жизни.
Человек десятки лет повторяет одно и то же:
— Вы хотите перевернуть весь мир? Нет ничего легче. Начните с себя. Сделайтесь другим. И пусть каждый человек сделается иным. И тогда весь мир сделается иным. И на земле воцарятся справедливость и добро. Никакие же иные перевороты, кроме «переворота каждым самого себя», ничему не помогут!
Он указывает средство:
— Как сделаться иным?
— Отыщите Бога и делайте всё «по-Божьему».
Отыщите в себе.
В новом рассказе Толстого: «Божеское и человеческое», содержание которого рассказывалось в иностранных газетах, сектант радостно говорит:
— Бога нашёл! Бог-то Он — во! Вот где Он!
И показывает себе на грудь:
— Вот где Он, Бог-то! И у всякого человека! А я-то Его искал! А Он здесь! Здесь Он!
Один из самых интересных людей, каких я видел когда-нибудь, сектант Галактионов, на Сахалине, говорил мне с ясными глазами:
— Небеса? Они в рост человека!
И указывал на лоб:
— Вот где небеса-то! Вот где свет-то! Вот где надо, чтоб прояснилось, — и всё будет ясно и хорошо и добро!
И я глядел ему в глаза, — или, говоря его языком:
— Глядел в окошки его души и видел, как в горнице у него светло и чисто.
А ученик йоги, в Бенаресе, говорил мне:
— Бог, это — всё, что существует. Это вы, это я. Если вы, если я, — если мы говорим друг другу светлые, добрые мысли, это Брама блещет нетленным блеском своим в вашем уме. И блеску Бога блеском Бога отвечаю я.
И все они говорили одно и то же.
И если бы вы у каждого из них спросили:
— Как ещё, помимо этого, единственного, по их мнению, пути можно устроить лучше жизнь?
Каждый из них взглянул бы на вас с изумлением.
Как на человека, который спросил бы:
— А что для этого лучше надеть? Сюртук или смокинг?
Я с большим интересом слушал беседу с Толстым о «Рассвете».
— Американский это рысак или русский?
Толстой знает лошадей.
Главное, — «лошадь он признаёт».
Но если бы я был редактором, и мне предложил бы «интервьюер»:
— Хотите, я поеду к Толстому и спрошу его о лучшей форме государственного устройства и как к ней стремиться.
Я сказал бы:
— Не беспокойте и не ездите.
Потому что «государства Толстой не признаёт».
Если бы я, сознавая ложь и ничтожество, и глупость той жизни, которую веду я и ведут все вокруг меня, захотел переменить её совершенно, — я пошёл бы к Толстому и не упал бы перед ним на колени только потому, что, свободнейший из умов, он не любит рабства поклонения.
И сказал бы учителю:
— Учитель! ты, сомневавшийся, перестрадавший уже всё, чем страдаю я, перемучившийся, передумавший, — помоги мне, слабому, своим опытом, тем знанием, которого ты достиг, своим необъятным умом. Помоги мне выйти на иную дорогу!
Но если бы мне надо было разрешить вопрос:
— Как мне лучше работать: на жалованье или за построчный гонорар. При каком условии я лучше могу сохранить свободу творчества?
Я пошёл бы посоветоваться с кем угодно, кроме Толстого.
Что он мог бы сказать мне?
— Друг мой, вопрос о творчестве не может зависеть ни от жалованья ни от гонорара уж потому, что за литературное творчество не надо брать ни жалованья ни гонорара. Если вы хотите свободы творчества, — она у вас в руках: откажитесь от жалованья и от гонорара. И вы будете писать только тогда, когда вы хотите. И только то, что вы хотите. Потому что вам не зачем будет поступать иначе.
Самое курьёзное, конечно, было бы поехать спросить Толстого:
— Лев Николаевич! как лучше приготовлять телячьи котлеты: жареными, в сухарях или паровые, под белым соусом?
Что он мог бы ответить?
— Голубчик! я — вегетарианец! По-моему, ни так ни этак котлет готовить не следует!
А между тем, к Толстому только и обращаются, что с вопросом:
— Как лучше приготовить котлеты?
А между тем его ответы вызывают глубокое волнение в сердцах.
Одни радуются:
— Смотрите, сам Толстой…
Другие опечалены:
— Как Толстой, в такую минуту…
Между тем тут нет причин ни для радости ни для печали.
— Что же, значит, Толстой сейчас не нужен?
Нужнее, чем все мы, вместе взятые. Потому что мы исчезнем, а вечность останется. Толстой же занят вечными вопросами человеческого духа.
Мы заняты этой и следующими минутами. Великое и почтенное дело. Но ведь надо же заниматься и вопросами вечными. Они тоже стоят внимания.
Не надо только к человеку, думающему над вечностью, приступать с вопросом.
— Что сегодня готовить?
Мы все немножко — Ксантиппа по отношению к этому Сократу.
— Да, но если вопрос насущный? Какое же жестокосердие в эту минуту заниматься «своими кругами»!
Приходится слышать такие речи.
При чём же тут жестокосердие?
Человек искренно убеждён, что всё, что мы делаем, не то, что надо делать.
Его спрашивают.
Он отвечает, как должен человек отвечать, — искренно, чистосердечно:
— По-моему, всё это, господа, ни к чему. Нужно не это. А это неважно.
Это не индифферентизм.
В великом сердце Толстого нет места для индифферентизма.
Это врач, великий врач, к которому приходит больная, страдающая глубоким, смертельным недугом, но не желающая лечиться ничем, кроме лавровишневых и валериановых капель, и спрашивает:
— Доктор, что мне лучше принимать: лавровишневые капли или валерьянку?
Он отвечает ей, с глубокой грустью отвечает:
— Сударыня, принимайте то или другое, — решительно безразлично Я вам прямо должен сказать: ни то ни другое вам не поможет.
Верны ли его знания? Или он заблуждается, считая свои знания верными?