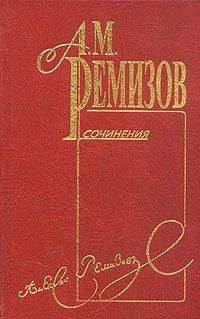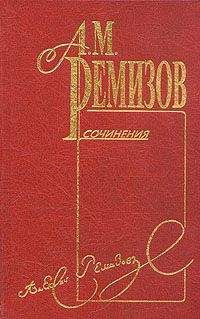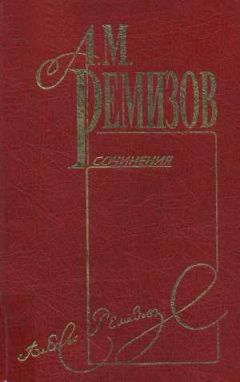Алексей Ремизов - Том 3. Оказион
Вытягивая длинно жилистую шею и лихорадочно перекидывая из стороны в сторону тонущие глубоко глаза, Певцов выкладывал с мельчайшими подробностями и повторениями день за днем из своего времяпрепровождения на «казенной даче».
Продолжительное молчание прикусывало язык, и слова захрясали в горле, а самая суть прыгала где-то перед носом, поддразнивала и все увертывалась.
Николай Алексеевич поминутно кивал своей огромной лысеющей головой в знак одобрения:
— Понимаю.
— А выпустили, — рассказывал Певцов, — при таких обстоятельствах, уму непостижимо. Полковник, который дело вел, чудодей был, страсть. Привезут, бывало, на допрос, заставит свою дочь в соседней комнате на рояли играть, а сам допрашивает. Или начнет рассказывать что-нибудь, как накануне в театре был, что видел. На чувствительных местах плакать примется. Поплачет, а потом подзовет дежурного, и опять тебя в тюрьму. На этот раз привезли меня с самого утра. Чем-чем только не пичкал, и обедом и вином угощал, а как завечерело, и говорит: хотите, — говорит, — со мной в летний театр идти? — Хочу, — говорю. Ну, и пошли. А как пришли в театр, народу тьма. — Акт посмотрим, а там в тюрьму, — сказал полковник и пошел к своему месту. И очутился я вдруг один среди тысячной толпы, совершенно один. Стоял, как одурелый, хватался то за одно, то за другое, уйма планов возникала в голове, уж не то что хотелось бежать, куда! — давно, казалось, убежал и стою, вернулся опять, поймали или не так, — вот поймают. Упал занавес, заиграла музыка. Вышел полковник. — Пойдемте, — говорит, — прогуляемся немного, потом на выставку, певичек послушаем, а там в тюрьму. — Гуляли. Народ расступается. Смотрит. И вся толпа, будто один глаз, смотрит. Обошли весь театр. На выставку. Тут я почувствовал, что всего меня трясти начинает, и ноги подкашивает. Певички поют. И сквозь туман и резкие голоса голос полковника… те же фразы, те же слова, что утром на допросе. Певички поют. Вдруг полковник схватывает меня за руку. — Идите, — шепчет, — идите отсюда, куда хотите. Я в толпу. Вижу, подходит губернатор. Спрашивает что-то полковника, указывает в мою сторону, полковник качает головой. Но меня уж нет. И я куда-то иду. Поют певички. Кто-то говорит: ты — шпион.
Певцов задохнулся.
Спокойно и безучастно носилась пыль, теплая, запыляя широкий горизонт и желтые поля и лес зеленый.
* * *Все бы хорошо, живи, как у Христа за пазухой, одно горе — бабушка одолела.
Ни днем тебе, ни ночью нет от нее покоя.
Бурчит и так чешется.
Все не по ней: и почему жара стоит и дождик редко падает и почему мухи так жужжат и кусаются и почему поселился в доме чужой человек, неизвестный.
Встретила она Певцова подозрительным глазом: какой он такой; может, и фальшивые бумажки подделывает, путаник.
Сядут за стол, бабушка охает. Разговор один — о пожаре: случился пожар год назад, а до сих пор мучает бабушку.
— Господи, добра-то добра погорело. Задуванило во флигели, услыхал Коленька, да ко мне, а я дрыхну… Бабушка, — говорит, — вставайте! — да в охапку меня, как дите малое, и вынес. Сапожки-то Коленькины, новешенькие, из Питера привез, мундирчик и все мои платьишки, какие были, ровно языком слизнуло.
Николай Алексеевич сопит, уписывает.
Кончат обед, за чай примутся.
Тут держи ухо востро, — бабушка все замечает.
— Расходы пошли огромадные, обдерут они тебя, Коленька, приятели-то твои ненаглядные, как липку… Сахару вот тоже нынче много выходить стало.
И так до самого вечера пилит.
И только когда отдыхать ложилась, наступал тихий час.
Певцов выходил из дому, усаживался где-нибудь в саду и ждал ночи.
И ночь подплывала светлая, стрекоча, вздыхала по-летнему.
Туман подымался. Гул города догрохатывал свою последнюю сутолку.
Что-то тихое незримо жило в сени дремлющих листьев под созревающими яблоками, словно это осень пробуждающаяся посылала ночи свои первые томные взоры и душистые.
И душа обращалась к ночи.
Ночь свободная, в звездах, в странном сиянии, она все приняла: и день с его заботами, с его работой, и вечер с его хмелем и голодом, приняла и низвергнула туда к земле, а сама стала вверх, манящая, в звездах, в странном сиянии.
И вдруг из ночи раздавался голос.
— Ты — шпион.
— Нет, неправда.
Но целый рой мыслей окружал сердце и жалил: опять выплывала «казенная дача», все дни и все ночи, все допросы, все уговаривания.
— А если однажды ты был уж готов…
— Нет, никогда.
— А если однажды ты подумал? Подумал… однажды… Ты шпион.
Певцов опускал глаза, робко подымался со скамейки и шел из сада, не оглядываясь, в дом.
Долго стучался.
Выходила бабушка заспанная в широкой кофте. Отпирала дверь.
— У! путаники, нет от вас покою мне.
Певцов на цыпочках входил в комнату, стлал пальто и заваливался.
— Знать, за грехи мои послал мне Господь наказание, — ворочалась бабушка.
* * *В один прекрасный день дом перевернулся вверх дном. Бабушка уехала. То-то житье пошло. По вечерам гости, — сиди хоть до утра, никто тебе слова не скажет.
И сидели до утра, засыпали пьяные, где кто попало, вповалку.
Не пальто, а бабушкина мягкая перина часто в ходу была для ночлега.
Водки выходило — не лезет, пей — вот как!
Все яйца, запасенные бабушкой на зиму, превратились в одну скорлупу, и скорлупа не убиралась, а сваливалась в угол.
Яблоки тоже поснимали и схряпали. Яблоки на закуску пошли.
С полудня начиналась жизнь. Дули чай, не обедали, а там приходил кто-нибудь, и пошла писать.
Певцов обвыкал.
Угарные дни задавили своим хмелем и тошнотой всякий непрошеный голос, и подымался в душе смутный образ какой-то другой жизни, не этой, от которой голова трещит.
Только бы вышло решение, а там пойдет по-другому.
И это другое казалось уж близким.
Впрочем, не раз все выворачивалось.
Следствие подходило к концу. Допрашивались для округления дела. И всякий раз, когда кто-нибудь отвечал уклончиво, полковник заявлял, что стоит ему призвать Певцова, как вопрос решится немедленно:
— Певцов скажет всю правду.
Редко Певцов выходил из дому, а когда выходил, редко не случалось истории: то знакомый руки не подаст, то перейдет на другую сторону, чтобы не встретиться.
— Сколько вы получаете из полиции? — спросил как-то один из привлекаемых по его делу.
— Шесть рублей, — ответил Певцов, не задумавшись.
Эту сумму он будет получать, когда его сошлют. Почему сказал? — сам не знает. Разве про это спрашивали?
И это подлило масла в огонь.
Пробовал кое с кем объясняться, не помогло — еще хуже запутало, а оттого, что, рассказывая, путался и терялся. А надобен был прямой ответ.
И тогда, после пьяной ночи, Певцов не засыпал, а красными, прожигающими словами, неумолимо допрашивал самого себя. И, не находя вины, выдумывал вину, выскабливал ее из мелочей, из ничтожества и надевал себе на шею огромный камень — вину, которую человек не может простить.
Это было бешенство поднявшегося греха, ненасытимое.
И лишь белый день сшибал его с ног и валил куда-нибудь в угол в груду окурков, скорлупы и плевков на темный сон.
От бабушки между тем получилось письмо. Писала она Коленьке, чтобы дом берег, глядел за имуществом, а главное за серебром — покойного отца наследство, да за приятелем поглядывал бы, мало ли что бывает…
Хохотали.
Вскоре Николай Алексеевич дом заложил. Деньги понадобились на свадьбу, — надумал жениться, да и ремонт подоспел.
Как-то на рассвете застучали молотками, и дом наполнился сиплыми и ахающими звуками отдираемого теса.
На стружках среди душистых опилок примостились приятели: надо было все передумать и приготовиться к свадьбе.
Толки о свадьбе заняли все время.
А для присмотра за домом наняли кухарку. Кухарка сошлась с плотниками.
Пошел дым коромыслом.
Так весь пост хороводились. Только после Успеньева дня Николай Алексеевич уехал в пригородное село венчаться, Певцова же не пустили, и он остался один.
Оставаться одному в доме не было никакой возможности. Такой кавардак воцарился, что постоялый двор.
Комнату нашел себе без всякого затруднения. Подействовали толки.
Уж эти мне городишки, запуганные и пришибленные, рады они всякой сволочи, лишь бы сохранить благополучие; жулик ты, вор, но из-за тебя не посадят в тюрьму, не отымут твоей рухляди, — и тебя всякий примет.
Что произошло, когда вернулась бабушка, одному Богу известно. Хватится одного — нет, хватится другого — недохватка.
Вспомнила о серебре, толкнулась в чулан, — замка и помина нет.
— Он, — кричала бабушка, — каторжник, допрежь некому, ограбил он меня, беспутный, ограбил окаянный… матернина-то анисовка, цвет-то какой был, все пожрал!