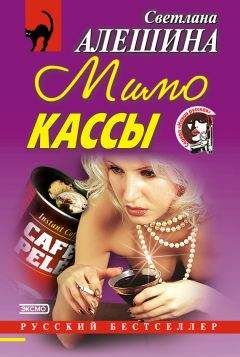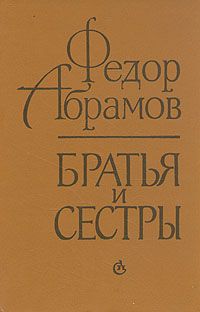Александр Амфитеатров - Катакомбы
— Стыдно! ты — христианка, образованная девушка, а тебе мерещатся какие-то вампиры, точно мужичка
— Ах, в этом царстве мертвых всему поверишь! — с отчаянием возражала Кэт.
— Здесь никого нет, кроме нас! слышишь ты? Никого, никого!
— Да, — упорствовала младшая сестра, — никого, пока светит рефлектор. Должно быть, оно боится света. Но когда ты гасишь огонь, оно приближается, и я начинаю умирать: мне душно, мой мозг леденеет… Бежим отсюда, Мэг, бежим!
В беспорядочном бегстве от овладевшего Кэт панического ужаса сестры метались под сводами своей огромной гробницы, как летучие мыши. Они бросались наудачу в первые попавшиеся ходы лабиринта, пробегая по ним километр за километром, пока не сваливало их на землю изнеможение или не упирались они в глухую стену. Или же — оглупевшие, потеряв энергию и волю, — они прилеплялись к камням какой-нибудь могилы и сидели без мыслей и без надежд, подавленные усталостью тела и духа до состояния, когда и к самой смерти человек безразличен, потому что ему кажется, — все равно: он уже заживо умер!
Закрыть рефлектор Мэг удалось, только когда Кэт задремала. Вслед за нею сонное оцепенение охватило почти мгновенно и старшую сестру. Теперь, проснувшись, Мэг чувствовала сильный голод, и все тело болело, будто избитое палками. Который-то час? Хронометр показал Мэг странную цифру. Она с недоверием поднесла часы к уху: нет, они шли правильно, маятник тикал четко и мерно. Одиннадцать!
Но одиннадцать было и когда мы засыпали?! Что же это? Неужели мы проспали подряд двенадцать часов? Сандвичей оставалось еще штучки три-четыре. Мэг отломила кусочек хлеба и ела его крошка за крошкою, стараясь протянуть время и обмануть голод этою призрачною едою… Ей пришло в голову: «Через час все наши сойдутся завтракать у Корадетти — Смит, Риццони, Сведомские, будут поминать нас, удивляться, что нас нет. Быть может, Корадетти сейчас как раз над нашею головою… ведь катакомбы тянутся под целым Римом, и Бог знает как далеко и в какую сторону мы зашли. Смит ухаживает за Кэт и непременно предложит brindisi[4] в ее честь. А она, бедная, задыхается в агонии голодной смерти — на сорок футов в земле под его ногами…» Кэт проснулась.
— Долго я спала? — был ее первый вопрос.
Мэг не решилась напугать ее ответом, что они в катакомбах уже целые сутки.
— Минут сорок, — солгала она.
— И ничуть не отдохнула, все-таки… Голова болит, колена дрожат, спину ломит… А ты что делала?
— Мне не хотелось спать, я стерегла тебя.
— Я есть хочу, — сказала Кэт после некоторого молчания робко и жалобно. — Можно?
Сердце Мэг сжалось:
— Деточка моя, конечно, можно.
Она дала сестре сандвич. Та съела и попросила еще. По обстоятельствам, это была непозволительная расточительность, но Мэг не могла отказать. Она думала: «Часом раньше, часом позже — не один ли конец? А ведь это последнее баловство, какое я могу оказать Кэт, последняя моя услуга ей…»
Часы летели.
Последний сандвич разделен и съеден. Последняя капля воды выпита. Последняя искра света погасла. Мрак и смерть! Клекот агонии в двух пересохших горлах да изредка слабый безумный стон:
— Мне двадцать лет… Только двадцать лет!..
Работник Николо Бартоломе, нанятый на поденщину чистить сад Монте-Пинчио, только что взялся за метлу, чтобы утреннею порою, пока сад закрыт для публики, убрать осенние листья, облетевшие за ночь с деревьев на дорожки любимого гулянья римлян. Он курил и пел:
Addio, Roma,
Bella citta —
La-ra-li-le-ra.
Bella citta![5]
И вдруг замолк: ему почудился стон.
— Diavolo! [6] откуда это?
Стон повторился.
— Уж не придушили ли здесь кого-нибудь ночью? — подумал Николо. — Или может быть, сохрани Бог, самоубийца! Римляне любят-таки кончать с собою на Монте-Пинчио.
Он обшарил кусты, прислушиваясь к стону, и наконец остановился в глубочайшем изумлении: стонала — теперь он различал это совершенно определенно — груда прелого листа, которую, вот уже около недели, сметал он стогом к решетке старой водопроводной отдушины. Груда не только стонала, но трепетала, — что-то рвалось из нее на волю, точно цыпленок из яйца.
— Sangue di Gristo![7] — воскликнул Николо, — воры зарезали человека и бросили его в мою кучу. Если этот бедняга задохнется, меня отправят в тюрьму на всю жизнь.
Он разбросал листья метлою до самой решетки, взглянул и уронил метлу, чувствуя, что волосы поднимают колпак на его лохматой голове.
— Befana![8] — мелькнуло в его суеверном умишке. Из недр земли, сквозь решетку, глядело на него страшилище: костлявая ведьма, в седых космах, с лицом такого же земляного цвета, как и листья, его облепившие, вся в ссадинах, царапинах, синяках, с глазами, пылавшими как два угля, по сторонам носа, похожего на заостренное копье. Ведьма совала сквозь решетку тощие руки — точно цыплячьи лапки — и, делая Николо знаки, неясно мычала синим ртом… Возле нее ворочался какой-то живой мешок, потерявший, под слоем земли и листьев, всякое человеческое подобие.
— Befana!.. Vade retro, Satanas! [9]
Но страшилище овладело наконец своею речью. Николо услыхал:
— Salvate noi, amico… siamo due ingleze… tre giorni senza pane… morriamo da fame [10].
Это была Мэг.
* * *Кто посещал купанья Ривьеры и Тосканского побережья, наверное, встречал либо в Нерви, либо в Санта-Маргарите, либо в Виареджио двух пожилых англичанок, очень схожих между собою. С лица обе совсем не дряхлы, но у обеих волосы седы, как лунь, у обеих головы трясутся, точно у восьмидесятилетних. С младшею разговаривать бесполезно. Она помнит только, что ее зовут Кэт, что у нее есть сестра Мэг, которая очень добра к ней, и что, когда солнце уходит спать в море, надо зажигать как можно больше свечей, потому что в потемках живут свирепые привидения, готовые высосать у человека кровь и съесть его тело.
— Это было со мною, синьор, — все было, когда мы сидели там, под землею, — уверяет безумная. — Оно не успело сожрать меня, потому что Мэг боролась за меня — она очень храбрая, моя сестра Мэг! Но оно выпило мою кровь, и теперь я — никуда не годная старуха. А между тем мне только двадцать лет, синьор… всего двадцать лет.
Этот унылый припев неизменно вторит ее болтовне, как звон похоронного колокола:
— Мне двадцать лет… всего лишь двадцать лет!
И двадцать лет эти идут ей вот уже двадцатый год. Но от Мэг турист может узнать все подробности их заключения в подземельях св. Каллиста. Как Бог помог им спастись, она не отдает себе отчета. Счастливый выход к отдушине на Monte-Pincio достался ей — именно вроде неожиданно выхваченного, удачного билета лото, одного выигрышного на сто тысяч аллегри.
— Голод, жажда и тьма совершенно обессилили нас. Кэт лежала у моих ног без чувств и без движения, не в силах даже стонать и плакать. Я, в припадке последнего отчаяния, то молилась, то богохульствовала, то каялась в своих грехах, то проклинала… Протяну руку к Кэт — вот ее изменившиеся, заостренные черты; чувствую, что она умирает, что она — вот-вот сейчас умрет. Знаю, что и сама умру вслед за нею. Но своя смерть меня пугала меньше, чем мысль, что Кэт умрет раньше меня, на моих руках… Меня объяли ужас и тоска, каких не только вы не можете вообразить вчуже, но даже я не имею сил вспомнить отчетливо. Думаю: сяду подальше от Кэт… Мне будет не так жаль ее, не так жутко. Поцеловала ее — она и не почувствовала — и отошла, ощупью, держась за стенку. Вдруг чувствую: рука стала влажная. Родник? Боже мой! да ведь это жизнь! Это спасение! С водою человек выдерживает недели голода… Освежилась сама, нашла Кэт, притащила ее к воде, освежила… Тогда я стала рассуждать: нет, это не родник. Будь родник, вода текла бы по полу, а тут стена влажная лишь на высоте моей руки, а снизу совершенно сухая. Следовательно, это не она испускает воду, а вода оседает на ней; стена потеет… Это — атмосферная влага. Значит, сюда есть приток свободного воздуха. Откуда? Конечно, сверху, — иначе почему бы роса отлагалась только на верхней части стены?.. И мне пало на мысль попытать последнего счастья: пойти вверх, придерживаясь влажной стены… Кэт не могла идти; я обвязала ее вокруг талии платком и тащила за собою волоком… Много ли мы шли, сколько времени, — не могу сказать… Знаю только, что, когда на одном повороте вечная тьма, в какую мы были погружены, вдруг будто дрогнула и перешла в серый сумрак, я едва не выпустила из рук своих Кэт: и от внезапного волнения радости, и оттого, что переход этот ослепил меня, — настолько показался мне ярким… А затем мы увязли в рыхлой массе прелого листа и по ней скорее докатились, чем дошли до решетки, за которою открыл нас Николо Бартоломе.
Монте-Пинчио и катакомбы св. Каллиста отстоят друг от друга километров на десять. Сестры провели в земле трое суток: сколько километров сделали они по извилистым ходам катакомб, конечно, мудрено сосчитать даже предположительно. Но чтобы пройти от св. Каллиста к спасительной отдушине на Монте-Пинчо — им пришлось пересечь по подземному диаметру весь Вечный город, спускаясь ниже ложа Тибра… Таковы подземелья древнего Рима — таково-то шутить с ними!