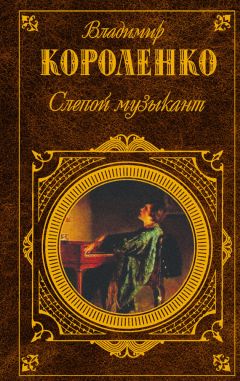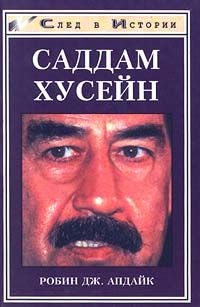Владимир Короленко - Слепой музыкант (илл. Губарев)
— Он… не может понять, — догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.
Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.
VIIХаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный [15] ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.
Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.
Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.
Яркий день ударил по главам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.
Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полной грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.
Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.
Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками, На поемных лугах [16] стояла вода широкими лиманами [17]; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама [18].
Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъяснимая тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.
С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица ножным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.
Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.
Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу [19]. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию [20]. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то о другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.
И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие… Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками… быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали… Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.
Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.
VIIIДядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии [21], психологии [22] и педагогике [23] и с обычною своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.
Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана [24]. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтоб вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута [25], на которого, без его влияния, никто не мог рассчитывать.
«Кто знает, — думал старый гарибальдиец, — ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат…»