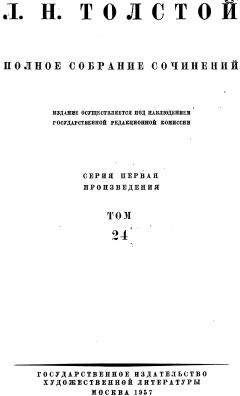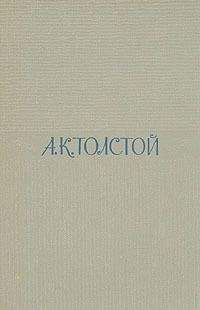Николай Шмелев - Деяния апостолов
- Бывало, и больше.
- Врешь, Сандро! Не бывало. Никогда ты ему больше рубля не платил.
- А что я был должен делать, по-твоему, Датико? Что?.. У меня свой хлеб, я торговый человек. Коммерсант... Я покупаю и продаю, покупаю и продаю... Какая цена на рынке, по той я и покупаю.
- Как же... Цена... Небось все, что купил, потом по сотне рублей за штуку продал? А, Сандро? Тем двум парням из Сололаки, в студенческих тужурках? Скажешь, забыл?
- По сотне?! Какой по сотне! Ты в своем уме, Датико? По три рубля продавал, по пять. Ну, по десять, если большая... По сотне! Если бы по сотне... Обижаешь, Датико! Ни за что обижаешь. Нехорошо. Ты мой старый гость, старый друг, Датико. Нехорошо!
- Ну, запел лазаря... Кому ты здесь сказки-то рассказываешь, Сандро? Мало у тебя грехов на душе? За все ведь придется когда-нибудь отвечать. И за Нико на том свете тебе тоже отвечать, Сандро...
- И отвечу! И отвечу, Датико! Я за все отвечу, Датико! Пусть еще кто-нибудь так ответит, как я буду отвечать!
Сандро в конце концов не вытерпел - выскочил из-за стойки и, продолжая возмущенно размахивать руками, присоединился к ним. Голоса его и паровозного машиниста звучали все громче, все возбужденнее, и гости за другими столами стали все чаще и чаще оборачиваться на них. Потом один из гостей, прихватив с собой стул, подсел к их столу, за ним другой, за ним третий - и через какое-то время вокруг них образовалась уже целая компания, в которой каждый, как оказалось, когда-то знал и любил Нико и в которой каждому было что о нем вспомнить и что сказать.
Играла в углу старенькая шарманка, тяжело хлопала дубовая входная дверь, впуская и выпуская посетителей, трещали дрова в очаге, шипело и стреляло сало, стекавшее с вертелов на угли, пахло жарящимся мясом, кислым вином, мокрыми опилками, плотным слоем насыпанными на полу... На улице опять шел снег пополам с дождем, и там опять стало темно. Сандро велел зажечь керосиновые лампы. Одну из них мальчик поставил прямо перед ними посреди стола, слегка отодвинув в стороны оба глиняных кувшина...
- Очень он стол любил рисовать, - рассказывал живой, подвижный человек средних лет с молодецки подкрученными вверх усами и припомаженной головой. С первого же взгляда в нем нельзя было не узнать потомственного тифлисского кинто: картуз, синий архалук, серебряный пояс с насечкой, мягкие шевровые сапоги. - Возьмет кисть - вино нарисует, хлеб, редиску нарисует. Поросенка на блюде. Пир, веселье! А за столом мы сидим - я сижу, друзья мои сидят, гуляем, песни поем. Тамада стол держит, слова благородные говорит. Тепло, воздух чистый, свежий. Луна на небе. Хорошо! Сердце радуется, душа отмякает. Себя любишь, друзей любишь. Всех любишь! Век бы так жил...
- Город любил, дома любил... И людей любил рисовать, - говорил другой гость, худой длинный человек в потертой, видавшей виды тужурке телеграфиста. Увидит князя - нарисует князя. Духанщика увидит - нарисует духанщика... Или дворника, или курда, или мальчика на осле. Бывало, нарисует - и повесит здесь, вон на той или на этой стене. Потом сядет в углу, молчит, улыбается в усы. А мы радуемся, любуемся. Зовешь его: "Нико, дорогой! Не откажи, выпей с нами стаканчик вина! За твой талант, за твое сердце..." Никогда не отказывался! Подойдет, поблагодарит, сядет. А когда выпьет - отломит от хлеба кусочек, пожует и ничего больше не ест... Эх, Сандро, Сандро... Неумный ты человек, Сандро! Плохой ты хозяин... Зачем все продал? К тебе и ходить-то теперь неохота. Так, по привычке идешь... А когда его картины здесь висели - народ к тебе валом валил, всегда шумно было, весело было...
- Нет, братья. Нет... - вмешивался третий, маленький, аккуратно застегнутый на все пуговицы человек, по виду служащий из банка или, может быть, страховой агент. - Он не город любил. Он деревню любил. У него земля была в Кахетии. Своя земля... Только он не ездил туда никогда. Почему - не знаю. Наверное, денег не было, чтобы поехать. Соседей, наверное, стеснялся, бедности своей стеснялся... Здесь к нему все привыкли, здесь его никто не обижал. А там, наверное, боялся, что смеяться над ним будут. Над худобой его будут смеяться, над бедностью. А деревню он любил. Всегда любил. Очень осень любил рисовать. Когда виноград давят, хлеб молотят. Когда молодое вино пьют, свадьбы играют, в гости друг к другу ездят. Сколько раз, бывало, смотришь, как он деревню нарисовал и думаешь, думаешь: люди добрые, как же так получилось, а?! Зачем я здесь? Почему я здесь? За каким дьяволом занесло меня в эту жизнь? Оставался бы дома, виноград бы растил, овечек бы пас, жена бы хлеб пекла... Уйду я когда-нибудь, братья! Домой уйду... Запущу в голову начальству чернильницей - и уйду... Там у меня мои старики лежат. И я с ними лягу. Там просторно, там не то, что здесь... Там и для меня место есть...
- А я больше всего его оленя помню, - вспоминал еще один, невзрачный и бедновато одетый гость, судя по длинным, до плеч волосам, из духовного звания, но не священник, конечно, и не дьякон, а пониже, из причетников: дьячок, наверное, либо пономарь. - Сандро, помнишь, олень здесь висел? Глаза еще у него были такие огромные... Смотрит на тебя со стены, сам тоненький, а глаза огромные, печальные, и вроде тебе и деться от них некуда, от этих глаз. Куда ни повернешься - везде они... Что-то он все сказать тебе хочет: про душу твою, про совесть... Про близких твоих. Я, бывало, приду от тебя, Сандро, спать лягу, одеяло натяну, глаза закрою, а передо мной он - олень. И все смотрит на меня, смотрит... А, бывало, еще и сниться начнет. Ночь за ночью снится. Прямо хоть на колени становись - молись, чтобы душу отпустил... Господи, Владыка всего сущего на земли! Пошли Ты Нико здоровья, если он еще жив. А нет - упокой его, как упокоил ты всех праведников Твоих...
- Аминь, - серьезно и строго, перекрестившись большим крестом, подтвердил паровозный машинист. - Намаялся он в жизни. Может, хоть на том свете воздается ему... А вы что, собственно, ищете, молодые люди? Его? Или картины его, чтобы купить? Если картины, то, как видите, опоздали. Вам бы года эдак два или три назад сюда заглянуть...
- Нет, не картины, батоно, - ответил Ладо. - Мы не картины его покупаем. Мы его самого ищем. Кое-какие тут деньги хотим ему передать. И с людьми встретиться пригласить. Послезавтра люди соберутся, художники соберутся хотят его повидать. Поговорить с ним. Может быть, что-нибудь сделать для него...
- Ах, господа... Господа хорошие... - вздохнул машинист. - Раньше-то где ж вы были, а? А ведь он ждал вас. Долго ждал... Может быть, всю жизнь ждал... Ждал, ждал - да боюсь, что так и не дождался. Может, вы теперь-то ему уже и не нужны...
- Мы не знали о нем. Ничего не знали! Мы с Ладо еще дети были - откуда нам было знать? - заерзал на своем стуле Михе Чиаурели. - Так нельзя, батоно. Легко так говорить - где ж вы были... А вы? А вы-то где были, если уж на то пошло? Вон нас сколько здесь сидит. Никто не бедный. И каждый говорит: наш Нико, дорогой Нико, уважаемый Нико... А он сейчас, может, где-нибудь с голоду помирает, если не помер уже. Неужели нельзя было его прокормить, угол ему найти? Подлечить его, если болел? Сколько ему надо было? Всего ничего. А вы ведь его все знали...
- Да, это верно, парень. Его здесь знали, - помрачнев, согласился паровозный машинист. - Его многие знали. Все вывески здесь, у вокзала, были его. Все номера на домах. Все его знали, все любили. А вот пропал человек - и виноватых-то, оказывается, нет. И получается - и не было никогда... Прокормить, говоришь? Прокормить-то мы бы его прокормили. Ему и, правда, не много надо было... Нет... Если бы дело было только в том, чтобы прокормить, он, может, и сегодня был бы еще тут. Дело не в прокормить... Душа его рвалась - вот в чем все дело! А куда рвалась, зачем - кто из нас понимал? И вас тут не было никого, чтобы объяснить. Нам объяснить... А может быть, и не нам. Может быть, и ему самому...
- Нико великий художник, батоно... Он величайший художник! - горячо, словно боясь, что ему могут не поверить, прервал его Ладо. - Помяните мое слово - придет время! Весь мир будет знать о нем. И каждая вещь его будет стоить миллион. Да-да, не усмехайтесь, не мотайте головами, я знаю, что я говорю: не рубль, а именно миллион!
- Э... хорошо! Кончится война, пойдут дела в гору - обязательно назад все откуплю, что продал, - мечтательно потянувшись всем телом и качнувшись на стуле, проговорил Сандро. - Сниму самый большой в Тифлисе подвал, открою такой духан, такой духан... Самый лучший в мире духан! И весь подвал, все стены в нем будут Нико, один Нико. Такой Нико, другой Нико... И духан так и назову: "У Нико"... Милости просим тогда, дорогие друзья! Всех приглашаю. Ко мне в гости, к Нико в гости - всех!
- А, Сандро... Говорю же - пустой ты человек... Не надейся, не пойдут твои дела в гору, - угрюмо возразил ему телеграфист. - Кончится война, начнется что-нибудь другое... Осатанел народ, злоба его душит. Вот-вот кровь польется. Не чужих - своих будут резать. А ты: подвал, подвал. Какой подвал? Говорят, на днях в Петербурге Распутина убили. Застрелили, как собаку... Чья теперь очередь, как ты считаешь, а?