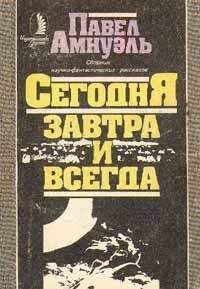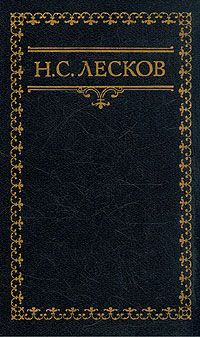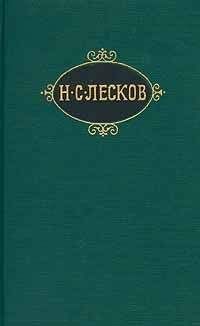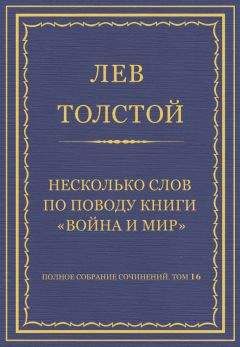Николай Лесков - По поводу крейцеровой сонаты
- Нет, оно обостряется!
Она воскликнула это с болью в сердце и даже как будто привстала и хотела отстраниться от чего-то, что я видел в моем воображении. Несмотря на то, что мне не видно было ее лица, я чувствовал, что она ужасно страдает и страдание это дозрело до такой степени, что не могло оставаться дольше без развязки.
- Следовательно, - сказал я, - вы осуждаете его все строже и строже...
- Да, чаще и чаще...
- Прекрасно, - сказал я, - теперь я позволю себе сказать вам, что я считал бы благоразумным, чтобы вы, возвратившись домой, сели к вашему самовару так, как вы садились к нему прежде.
Она слушала молча; глаза ее были устремлены на меня, и я видел их сверкание сквозь вуалетку, слышал, как громко и учащенно билось ее сердце.
- Вы мне советуете продолжать мою скрытность?
- Не советую, но думаю, что так будет лучше для вас, для него и для ваших детей, которые во всяком случае ваши дети.
- Да почему лучше? Значит, тянуть бесконечно!
- Лучше потому, что при откровенности все было бы хуже, и бесконечность, о которой вы говорите, сказалась бы еще печальнее того, о чем вы думаете.
- Моя душа очистилась бы страданием. Мне казалось, что я вижу ее душу: это была душа живая, порывистая, но не из тех душ, которых очищает страдание. Потому я ничего не ответил о ее душе и снова упомянул о детях.
Она заломила обе руки так, что пальцы ее хрустнули, и тихо поникла головой.
- И какой же будет конец этой моей эпопее?
- Хороший.
- На что вы надеетесь?
- На то, что человек, которого вы любите или, по вашим словам, не любите, а с которым вы свыклись... станет вам день ото дня ненавистнее.
- Ах! он мне и так ненавистен!
- Будет еще больше, и тогда...
- Я вас понимаю.
- Я очень счастлив.
- Вы хотите, чтобы я его бросила молча?
- Я думаю, что это был бы самый счастливый исход из вашего горя.
- Да, и потом...
- И потом вы... возвратите...
- Возвратить ничего невозможно.
- Виноват, я хотел сказать, вы удвоите вашу заботливость о вашем муже и о вашей семье; это даст вам силу не забыть, а сохранить прошлое и найти достаточно поводов жить для других.
Она встала - неожиданно встала, еще глубже опустила свою вуалетку, протянула мне руку и сказала:
- Благодарю, я довольна тем, что послушала своего внутреннего чувства, которое сказало мне прийти к вам после того, как меня взволновало ужасное впечатление похорон; я оттуда вернулась как сумасшедшая, и как хорошо, что я не сделала всего того, что хотела сделать. Прощайте! - она подала мне опять руку и крепко пожала мою, как бы с тем, чтобы остановить меня на том месте, где мы находились. Затем она поклонилась и вышла.
IV
Повторяю, что лица этой женщины я не видел; по одному подбородку и под вуалью, как под маской, о ее лице судить было трудно, но по фигуре ее у меня составилось понятие о ее грации, несмотря на ее плюшевое пальто и шляпку. Говорю, это была фигура изящная, легкая, необыкновенно живая и необыкновенно сильно врезавшаяся в мою память.
До сих пор я этой дамы никогда нигде не встречал и по голосу ее думаю, что она не была мне знакома. Говорила она своим непритворным голосом, легким, грудным контральто, очень приятным; манеры ее были изящны, и можно было бы принять ее за женщину светского круга, и, еще вернее, высшего чиновничьего круга, за жену директора или вице-директора департамента или в этом роде; одним словом, эта дама была для меня незнакома и осталась незнакомою.
После похорон Достоевского и рассказанного мною события прошло три года. Я зимой заболел и весною отправился на воды за границу; до вокзала железной дороги меня сопровождал приятель и одна моя родственница; мы ехали в коляске; с нами были мои дорожные вещи. Проезжая по одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту, на одном из поворотов, у подъезда большого казенного дома, я увидал даму; мгновенно, несмотря на мою близорукость, я признал в ней мою незнакомку. Я вовсе не был приготовлен к этому, вовсе о ней не думал, и потому поразительное сходство меня сильно удивило; у меня мелькнула глупая мысль встать, подойти к ней, остановить, о чем-то спросить, но так как со мною были посторонние лица, то я, к счастью моему, этого не сделал, и воскликнул:
- Боже мой, это она! - и этим дал моим спутникам повод посмеяться.
На самом деле это была она; вот как это открылось. По обычаю всех русских или большинства русских, я выбрал кружный путь; прежде всего заехал в Париж и пил воды в июле и затем только в августе появился там, где мне следовало быть в июне; скоро я ознакомился с большинством других лечившихся русских и всех почти знал, так что прибытие всякого нового лица мне было заметно.
И вот однажды, когда я сидел на скамейке парка, по которому проходит дорога, ведущая к вокзалу, я увидал коляску, в которой помещались: мужчина в светлом пальто и шляпе и дама в вуали, а перед ними сидел мальчик лет девяти.
И опять со мной случилось то же самое, что было при выезде из Петербурга.
- Боже мой, это она!
Действительно, это была она.
На другой же день в ресторане парка за кофейным столиком я увидал ее благообразного, но испитого мужа и ее необыкновенно красивого ребенка. Мальчик был несколько цыганского типа, смуглый, с черными локонами и с большими совершенно голубыми глазами.
Я допустил себе маленькую наглость: подкупил гарсона, чтобы он устроил столик поближе к даме; я хотел рассмотреть ее лицо.
Она была хорошенькая, с довольно приятным, мягким, но мало значительным выражением; она меня, без сомнения, узнала, два или три раза она старалась повернуться на своем стуле так, чтобы мне неловко было рассмотреть, но потом встала, остановилась возле одной моей знакомой дамы, поговорила с нею, отошла в сторону и возвратилась к мужу.
Вечером за послеобеденным кофе на одном из сборных концертов моя знакомая дама, к которой подходила новая гостья, сказала мне, что она желает меня представить г-же Н., которая в эту минуту мимо нас проходила, и представление было сейчас же исполнено. Я сказал ей обыкновенную фразу, на которую она ответила также обыкновенными словами, но в этих словах, в этом голосе, в этой манере я узнал ее; это несомненно была она, и она была настоль умна, что поняла, что я ее узнал, решила не скрываться и сделаться знакомой; она могла рассчитывать на мою порядочность, на слова, которые она мне тогда говорила...
С тех пор мы стали видеться, и мы даже несколько раз делали экскурсии со знакомыми дамами и ее сыном. Муж ее как-то не любил поездок, у него болело колено, он прихрамывал, и притом, не могу разобрать, что с ним происходило: не то он тяготился женой, не то даже желал быть свободен, приволокнуться за одною или даже, может быть, не за одною из приехавших дам сомнительных репутаций. Но при всех наших встречах и разговорах она никогда не сказала и не намекнула, что у меня была или что мы когда-нибудь виделись раньше: только я прекрасно чувствовал, что она и я считаем за несомненное, что мы друг друга понимаем. И вдруг среди этого положения представился совершенно непредвиденный случай.
В одно прелестное время поутру она не явилась сопровождать мужа к источнику: он был к кофе один и сказал, что их Анатолий недомогает, что мать не помнит себя от горя.,
В восемь часов вечера мой портье сообщил мне страшную новость, что в отеле таком-то умер ребенок от дифтерита; это, конечно, был сын моей незнакомки.
Я не принадлежу к числу людей слишком осторожных и потому тотчас же взял мою шляпу и отправился в этот отель; мне почему-то казалось, что муж ее слишком безучастно к этому относится; если этот дифтеритный ребенок есть ее сын, то, может быть, моя помощь или какое-нибудь участие на что-нибудь пригодится.
Когда я вошел в отель, где занимала она номер... никогда не забуду того, что я увидел. Там было всего две комнаты: в первой, где была гостиная мебель, обитая красным плюшем, стояла моя незнакомка, с распущенными волосами, с остолбеневшими глазами; она держала обе руки с растопыренными пальцами, защищая собою диванчик, на котором лежало что-то, покрытое белой простыней; из-под этой простыни была видна одна небольшая синяя нога; это был он - мертвец Анатолий. У двери стояли два незнакомых мне человека в серых пальто, перед ними был ящик, не гроб, а ящик, вроде большого свечного ящика, в аршина два глубиною, до половины налитый чем-то белым, что мне показалось сначала молоком или крахмалом; спереди их стоял полицейский комиссар и бюргер с каким-то значком; они говорили громко; мужа дамы не было дома, она была одна, она только спорила, защищалась и, увидев меня, воскликнула:
- Боже мой! защитите, помогите! Они хотят взять ребенка, они не дают похоронить его; он умер сию минуту.
Я хотел заступиться, но это было совершенно бесполезно, даже если бы у нас была сила одолеть четырех человек, которые без всякой церемонии и довольно грубо бросили ее в другую комнату и закрыли дверь, в которую она напрасно с страшным стоном стучала кулаками. В это время взяли ребенка, который был таким цветущим, опустили его в раствор извести, тотчас схватили ящик и быстро удалились.