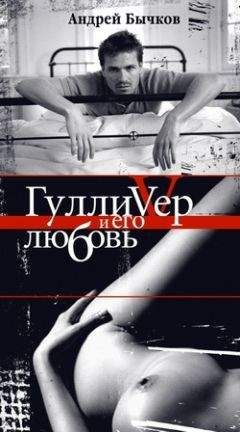Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки
– А я под сочельник черта видел, – сказал Корнетов, – и не то, что видел, этими глазами не увидишь, а почувствовал всю его злую силу и так ощутительно, словно бы за хвост его дернул или до шаршавой его лапы дотронулся. Вздумал я перед праздником ванну принять. Дома никого. Ивановна к Смольному в баню пошла. Пустой дом. Сижу я в ванне, намылил пиксафоном голову и чего-то задумался, и чувствую, что где-то тут, в ванной, появился он, и так почувствовал, что не успел сказать себе: «черт» – слышу, кто-то закурлыкал. Насторожился я – курлычет! И стало мне очень тоскливо, безнадежно, и я как-то понял, что мне все равно, что бы там ни делалось, что бы ни случилось, все безразлично, а на сердце дымно, чадно, отчаянно. Он тут в ванной со мною, и не весь, а просунулась в ванну какая-нибудь одна квадриллионная его частица, какой-нибудь отросток его самый негодный, червовидный, а все остальное, головища, лапы, туловище – там, на воле, над Петербургом, над всей Россией, и оттого везде такая безлепица, нескладица, бестолочь, бесстыдство – все равно, безразлично, безнадежно. Сижу я так, мыла не смываю, задумался, а он все курлычет –
И Корнетов закурлыкал. И все «пировые брусяные палаты» ответили громким смехом. И даже прокурор Жижин, в жизнь не смеявшийся, мертвецки ощерился, вроде как засмеялся; а придворный музыкант Кирюшин в своем малиновом кафтане, с медалями, весь затрясся, малиновый, как кафтан, а за ним инженер Дымов и журналист Смелков и правовед Сухов13, прозванный кавалергардом, и моряк с кортиком Мукалов, и актер Рокотов, и певец Труханов и бритый адвокат во фраке Багров и весь сонм необнаружившихся, пока безымянных, помирали со смеху. Стрепетный Абраменко, вздурясь, колол колючими шпорами зоолога Копылова, профессор-византолог, оправившись от зуба, без зуба не разевая рта, подхихикивал.
– Да, то ли еще будет… столпотворение будет! – Корнетов, указуя перстом по-халдейски, чудил, – потихоньку да полегоньку все мы съежимся – так, и на бок – так, без языка – так, с глупеньким смешком. И уж будет совсем неважно, безразлично, когда придет тот же псоголовый Индиан, ступит на Красную площадь и тихо займет Кремль, а у нас, в Петербурге, поволокут Петра куда-нибудь в Мурзинку и вылетит последний русский дух!
Нет, хоть бы дух перевести, сам царь Валтасар Халдейский ничего б не расслышал – ничего б не расслышал – ни про какого Индиана, впустую шла корнетовская глаголица. «Ванный черт» вызвал смех, смех возбудил позыв на корм – и пошла в ход варенуха, королевская селедка, вина горячие и меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый и все, что около и за, заготовленное Корнетовым.
– В ту ночь и сон мне приснился особенный, – не унимался Корнетов, настраиваясь на крещенский лад, – снилось мне, будто я вроде как на вокзале – огромное здание со стеклянной крышей. И не знаю, для чего такое здание, одно знаю, что это-то и есть мир, весь мир. А сложено оно из коробок, из всяких плетушек, и много лестниц во все концы, со всех концов, – и деревянные и бревенчатые и из веревок и просто из паутины, прозрачные. Народу – не проберешься: и дети и женщины и старики и молодые. И все такие несчастные, измученные, и все только и делают, что прячутся. Этим только и заняты: одни заворачиваются в тряпки, другие в стружки, третьи заставляются каменными людьми – каменные такие полуживые стоят истуканы. Но как ни прячутся, как ни хоронятся, а схорониться не могут, их видно – а видны они эфиопу и эфиопке. Эфиоп – тощий-претощий и длинный, сухой, а эфиопка – паучиха, короткие ноги. Над всем и везде – они прытко белкой бегают по лестницам и всех и все видят; только они умеют так легко и ловко бегать с лестницы на лестницу, перебегать и спускаться из конца в конец, сверху вниз. И этого никто не может, а которые идут – с трудом подымаются, считают ступеньки. И я вижу, как по горизонту мечутся люди и никуда убежать не могут: их и там видно – их видит эфиоп с эфиопкой. Тут я не помню, что-то говорилось – ничего мне не в память, только вдруг откуда-то свет и страшно блестящие с синевою пушки…
– Очень жизненно! – крякнул стрепетный Абраменко с колючими шпорами.
– По моему положению я в сны не верю, – сказал прокурор, – но должен признаться, сон ваш – сама жизнь.
– Жизнь? – подцепил Багров, – что такое жизнь? – тысяча съеденных котлет…
И, как камень о камень, снова смех: багровые котлеты пришлись по сердцу: «тысяча съеденных котлет»! – посыпались невские анекдоты.
Тут догадливый хозяин, чтобы не порвалось дело, выскочил на кухню к Ивановне. И уж скоро вернулся и не один, а с Ивановной: Ивановна расскажет святочное – крещенское, чего все забоятся: лапландскую сказку.
* * *Ивановна смерти не боится и пожара не боится, и темноты не боится, Ивановна «второго пришествия» боится – громогласной трубы архангельской, колдунов и лешего. Лешего Ивановна не раз видела и очень хорошо упомнила: «мужик большой, глаза светлые, и ребята у него есть, ребята черные, худые». Ивановна дальняя – отъезжица из Лапландии от Студеного моря. Там она прожила всю жизнь, там и быть бы ей до своего смертного конца, но судьба выбила ее из родной земли вон – в Петербург. Неграмотна, один «твердый знак» знает, а много чего видела и слышала.
Уехали родители в Колу. Осталась она одна дом караулить. Сидит у окна, шьет. Погасал ясный вечер. И вдруг две барышни прилетели, будто на крыльях, в черном: черные шляпы, черные ленты. Стали у окна – говорят:
«Мы шли-шли –
по пути избушка,
в той избушке маленькая подружка,
очень маленькая!»
И качают головой – черные шляпы, черные ленты. Которая постарше, у той ключи в кармане, брякает ключами:
«Отдать этой ключи?» – показывает на Ивановну. «Нет, – говорит младшая, – рано ей еще: не может она владеть нашими ключами».
А Ивановна и спрашивает:
«Барышни колец не носят, а у вас много колец на руках?»
«Мы эти кольца раздаем: кому два, кому три, кому пять!» – и качают головой.
Еще много чего насказали они Ивановне и на прощанье дали ломаное кольцо.
– В худых душах лежала, черная, как уголь, а сказать боюсь: «Смотри до трех лет не сказывай!» запретили мне барышни.
И все сбылось. Вышла Ивановна замуж, были у нее дети. И муж и дети померли. В Петербург попала. И не вернуться ей к Студеному морю, не обменять ломаного кольца на крепкое литое – не выменять горькую долю на счастливую.
3. Нойда14Не было и нет на земле страшнее нойдов – лапландские колдуны. Много их было да и теперь не перевелись у Студеного моря, где живет кит-рыба, мать рыбам. Нечеловеческими чарами владели нойды: орлы доносили им чужие речи, рыбы приходили на их зов и на рыбах переносились они с земли в царство мертвых, вызовут мертвеца на землю – узнают от него тайны, они угадывали, что делается в далеких чужих странах, предскажут будущее – царю Ивану Грозному нарекли Кириллин день! – помогали и вредили человеку – привораживали, напустят болезнь, наведут порчу и мертвый сон, насылали и смерть, переносились на облаках, подымут ветер, грозу и бурю, их можно было убить до смерти, но они знали, как воскресить себя, и опять подымались, как ни в чем не бывало.
Нойда, умирая, благословлял своим колдовством. Если же не находил способного или не успевал передать свою тайну, его дух не успокаивался – и по смерти бродил он по земле с колдовскими ключами.
Там, у Студеного моря, где лелеется лунный олений мох волнистый – примени к волнующемуся морю! – там, где летней порой стоит день и ночь незакатное солнце червонное – примени к червонному золоту! – а в зимнюю темь и ночью и днем – звезды; там, где в звездном сиянии, как ударит мороз, и сполохи – души убиенных – подымут резню на небе: кровь их студеная – примени к студеному морю! – алой волной лелеется, и от звезды до звезды дыблет нож; там, где по звездному небу сполохи алым окатным жемчугом убирают самоцветные солнца, по белой дремучей пустыни среди живых бродят неуспокоенные чародейные духи. Страшны нойды при жизни, еще страшней после смерти; мертвец может больше живого!
Жил в Нотозере большой нойда – Ризь. И умер. Положили его в гроб, а везти хоронить боятся. Был Ризь страшен живой, а мертвый еще страшнее! Вызвался смельчак, запряг оленей и повез мертвеца. С вечера выехал – не ближний конец – думал к утру на месте быть. Едет он вечер, и стала ночь. Бойко бегут олени – споро дорога идет. К полночи чего-то испугались олени. Посмотрел возница – и туда и сюда – нет никого. Оглянулся – а мертвец сидит.
«Коли помер, лежи!» – крикнул на мертвеца.
Послушал мертвец, лег. Поехали дальше. Глухая ночь. И опять испугались олени: мертвый сидел в гробу. Тогда выскочил из саней возница, выхватил из-за пояса нож:
«Ложись! – кричит. – Коли не ляжешь, зарежу!»
А мертвец зубы оскалил – и стали зубы, как нож. (Покажи мертвецу палку, и стали бы зубы деревянные!) Спохватился возница, да поздно. А мертвец все-таки лег. Поехали дальше. Катит глухое время – стынет немая полночь. Дважды сошла беда, в третий раз не минует: встанет мертвец, загрызет! Соскочил возница, выпряг оленей, а сам на ель – до самой верхушки. А ждать не пришлось, встал мертвец – и к ели. Острые, как нож, железные чернели зубы – скрипел зубами, а руки его крестом на груди, как в гробу. Обошел он вокруг ели, пригнулся и грызет. Обгрыз ветви, за ствол принялся – он грыз, как россомаха! – летели щепки, падали ветви. И зашаталась ель – возница сам стал ветви ломать, бросал мертвецу. Мертвец подумал: падает ель! – и остановился. Не падала ель. И опять стал грызть. И не раз живой обманывал мертвеца: только б дотянуть до зари – с зарею мертвец ляжет в гроб! Возница запел петухом: прокукурекает, похрипит и опять кукореку. Встрепенулся мертвец, бросил ель: не заря ли? Нет, еще не зареет. И опять грызть, грыз, подгрызал под сердцевину. Дрожала ель – упадет: несдобровать! И обреченный сам стал спускаться на землю. Мертвец подумал: поддается! – и перестал грызть. Острые, как нож, железные чернели зубы – скрипел зубами.